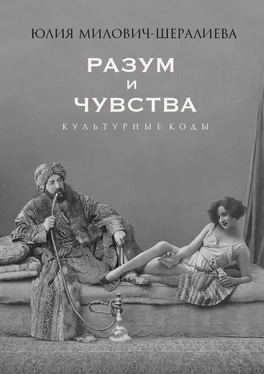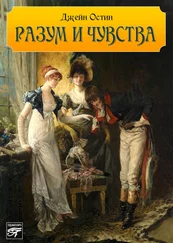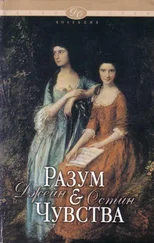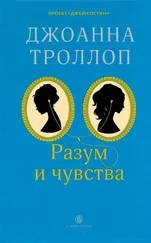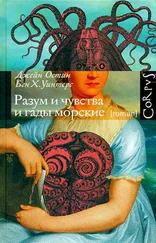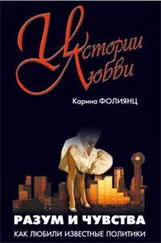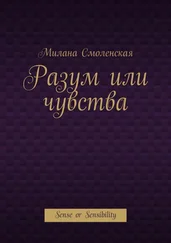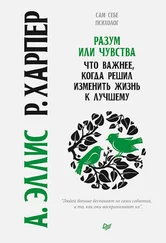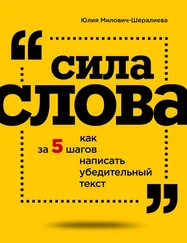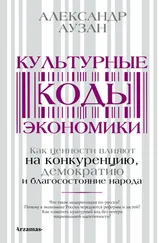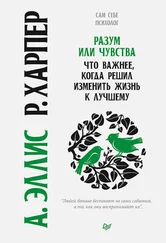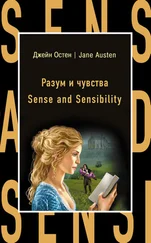Изображения Самарканда, Бухары, Хивы… Это три вершины «Золотого треугольника» Востока. По ним проходил легендарный Шелковый путь. Здесь были самые крутые ученые и мастера, а уже если брать времена Тимура и ранних Тимуридов – так вообще. Закачаешься, как восточное низкое знойное ночное небо с неправдоподобными звездами.
Вот эти самые изображения – они захватывают зрителя не только традиционной и вполне ожидаемой красочностью, не только масштабностью и при этом четкостью выписанных деталей. Но и тем, черт возьми, что ни площадь Регистан в Самарканде, ни усыпальница Тимуридов Гур-Эмир не изменились и сегодня. Какими предстали они взору художника в конце 19 века, какими видели их мы в своем детстве, такими, хоть и очень по-своему, их снимает сегодня любимый фотограф Анзор Бухарский.
Что глубже и проникновеннее здесь? Что достовернее? Что там время стоит, чей маятник покачивается ну очень медленно – и от этой космической масштабности сразу до слез все понятно? Или что картина в этом контексте – реальное окно, всматриваясь в которое, мы действительно смотрим туда, куда смотрел Верещагин, смотрит Бухарский или я – 25 лет назад?.. И кто тут тогда настоящий, а кто «нарисованный» – мы, которые мечемся, суетимся, жмем педали велосипедов, которые никуда не идут, пьем таблетки от грусти и не знаем, как перестать слишком много есть и пить, или та незыблемость, которая не меняется ни на картине, ни в нашей памяти, ни в реальности?
…На выставке не только картины – и в этом тоже та самая масштабность охвата самой экспозиции. Оружие: сабли, мушкеты, ятаганы, мечи и ножны – уже не только зримо напоминают о реальности того, что мы видим на полотнах Верещагина. Мундиры гусар и генералов, чалмы и шлемы, казахские войлочные шапки и шелковые мужские портки. Ковры и халаты. Такие халаты были пятьсот лет назад, такими же они были при Верещагине, такие же носил мой дед. Настоящий Восток (и война) времени не подвластен – во всяком случае, так, чтобы это было заметно глазу смертного в масштабе пары столетий. Восток мыслит иными масштабами, и шаги его времени – семимильны.
…Фотографии из архива художника или просто – того времени. Некоторые показывают прижизненные и посмертные снимки выставки Верещагина. И опять время встало. Как на фотографии, запечатлевшей момент взрыва танкера с Верещагиным на борту. В общем, так можно до бесконечности.
Видимо, и Верещагин прекрасно это понимал. «Повсюду то же самое поклонение грубой силе и та же самая непоследовательность… и это совершается даже в христианских странах во имя того, чье учение было основано на мире и любви. () …вид этих груд человеческих существ, зарезанных, застреленных, обезглавленных, повешенных на моих глазах по всей области, простирающейся от границ Китая до Болгарии, неминуемо должен был показать живое влияние на художественную сторону замысла».
Жаль, что только его искусству удалось восторжествовать над войной – на полотнах. Впрочем, и за одно только это – спасибо. И да – за то, что вернул мне халат моего дедушки.
Вертинский. Транслятор утраченного рая
Русский и советский эстрадный артист, киноактер, композитор, поэт и певец, кумир эстрады первой половины XX века родился 21 марта 1889 г. в Киеве. Лауреат Сталинской премии 1951 года.
Время, когда он родился, – период огромных возможностей на фоне пугающих предчувствий катастроф. Это то, что питает все течения, хаотично множащиеся, дробящиеся, продолжающие или противоречащие друг другу: символизм, акмеизм, футуризм и др. Лихорадочный поиск ответов на вечные вопросы. Внутри этого складывается личность родившегося 21 марта 1889 года в Киеве Александра Николаевича Вертинского. Рано осиротевший, скверно учившийся, не знавший радости и нежностей. Не отсюда ли, во-первых, уход в «другую реальность» театра и увлеченности им? А во-вторых, отвлеченная эстетика скрывающего лицо грима и упадничество декаданса, как способ уйти от малоприятной реальности.
В манерность – от стеснительности – часто воспринимаемую как признак нетрадиционной ориентации. А еще и кокаин в свободной продаже в аптеке. И поклонницы, о которых благородно умалчивалось, как и о браке, случившемся задолго даже до рождения знаменитой вдовы Вертинского – Лидии Циргвавы.
Плюс, точнее, минус – картавость. В театре он был робок и неловок. А откуда взяться смелости сиротствующему парню, с отменными (изначально-то был принят в лучшую гимназию школы, а потом за поведение «понижался» в худшие) данными, но без опыта безусловной любви в самом детстве. Где царила странная сухая злобная тетка, хоть и не совсем, конечно, бросившая его на произвол судьбы (иначе быть бы ему не тонким, но озлобившимся).
Читать дальше