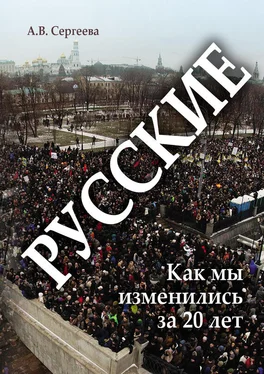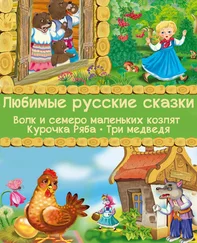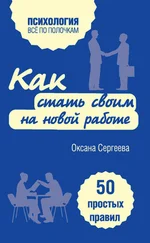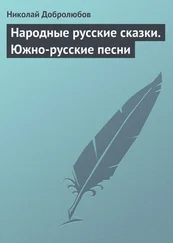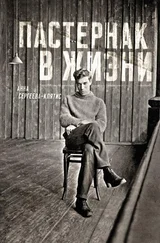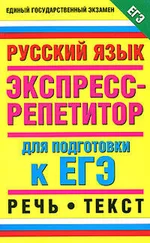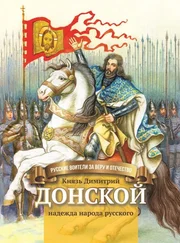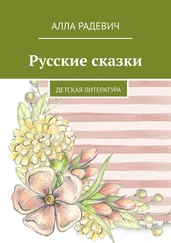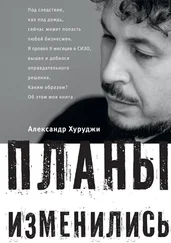Почему растет количество элиты? Откуда берутся ее ресурсы?
В первое десятилетие «новой демократии» первый Президент РФ, с его своеобразным характером, прославился частными отставками, рокировками чиновников, которых он сначала приближал, потом разочаровывался и менял на других. Внезапность этих перестановок нарушала преемственность власти.
И если в советские времена отставка означала «политическую смерть», то теперь реален возврат во власть тем или другим способом: из министров – в депутаты, из администрации – в крупный бизнес, в госкорпорации, в многочисленные фонды и т. д. Ну, не в народ же идти?!
Типичный путь вхождения в элиту – парламентская и политическая деятельность. В элите практически нет выходцев из села, резко упала доля женщин и молодежи. В последние 10 лет значительно выросло количество людей в погонах, которых называют «силовиками»: каждый четвертый член нынешней элиты – военный. (При Ельцине их доля в элите была 11 %.)
Возможно, это связано с настроениями общества: с советских времен военные имели репутацию честных, ответственных профессионалов, их образ не был связан с коррупцией, воровством и политической демагогией. Много тех, кто пришел во власть из спецслужб. Они не участвовали в бандитской приватизации 1990-х годов. По роду своей профессии они не могли быть ярыми «западниками», и казалось, что они – убежденные патриоты.
Гораздо меньше в элите стало женщин, зато резко растет доля земляков главы государства. Если при Ельцине в элите каждый десятый был с Урала, то сейчас четверть кремлевской элиты – выходцы из города на Неве.
До перестройки главным ресурсом пополнения элиты была интеллигенция, в основном люди с техническим образованием. При Ельцине элита пополнилась региональной администрацией, сотрудниками силовых и правоохранительных ведомств и особенно – бизнесменами. Б. Ельцин приблизил к себе молодых ученых, блестяще образованных политиков, экономистов, юристов. Его команда наполовину состояла – из докторов наук. А сейчас в правящей элите значительно возрос удельный вес людей в погонах (каждый четвертый), зато снизилась доля «интеллектуалов» и людей, имеющих ученые степени (тоже наполовину). Так что современная элита еще не окончательно оформилась в своих границах. Однако есть тенденция: вместо интеллектуальной и профессиональной элиты – гордости страны – к власти приходят представители крупного капитала, опухшие от богатства, и чиновники, сросшиеся с этим капиталом. Парадокс демократии: этих людей привели наверх, во власть, не выборы, не происхождение, не их гениальность, а назначение .
Близость к власти пока еще не создала «настоящую», легитимную элиту, сплоченную, уверенную в своем статусе или престиже. Сам принцип произвольного, случайного отбора (по знакомству, по дружбе, по землячеству) выдвинул во власть людей с психологией временщиков, создал не настоящую, а эрзац-элиту.
Главный движущий мотив интересов «элиты» – узаконить и укрепить такую модель общества, при которой все экономические решения всегда оставались бы за ней, работали бы в ее интересах. Она откровенно не заинтересована в модернизации страны. Многие представители элиты имеют двойное, даже тройное гражданство, недвижимость и счета вне России, куда «чуть что» они отправятся с семьями. Нужны ли им положительные перемены в России?
Обогащение и усиление «элиты» происходит через расширение коррупции. Коррупция существовала в России всегда, но именно сейчас она стала как никогда масштабной и открытой. В итоге в руках «элиты» сосредоточены самые важные ресурсы страны. Порой она бросает крохи с барского стола, называя это благотворительностью. В сущности – это грабеж совместного наследства. Ведь у нас всех общие предки, которые оставили нам наследство – материальное и нематериальное. И те, кто наверху, – только распорядители этого наследства, а не его владельцы. И если они узурпируют его, то они узурпируют долю братьев и сестер.
Культурные и этические нормы, которые распространяются эрзац-элитой в обществе, неминуемо деградируют. Попытки «элиты» перенести на отечественную почву ценности либерализма в условиях России искажают эти самые ценности до неузнаваемости: здоровый индивидуализм превращается – в дикий эгоизм, свобода – в безответственность, конкуренция – в уничтожение соперника. Ей явно не хватает этических стимулов. И дело не в том, что она испорченная или порочная, а в том, что государственная система не воспитала в ней самой, сколоченной наспех и случайно, такие стимулы, поскольку в самом государстве их недостаточно.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу