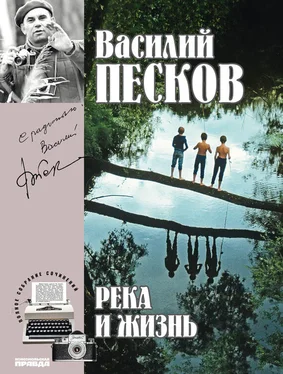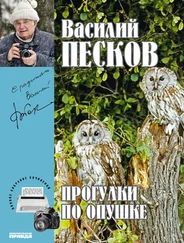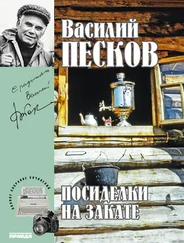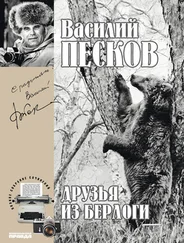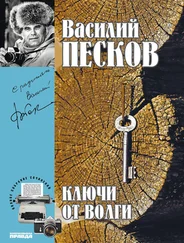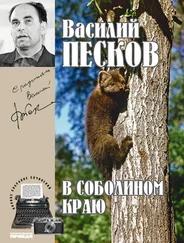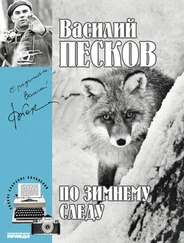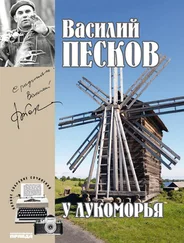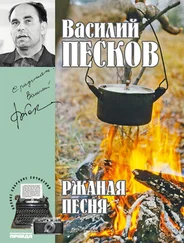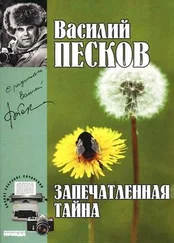Несколько раз мы видели превращение лесной реки в реку степную и опять в текущую лесом. Контрасты дают пищу чувствам. И хорошо было после залитых светом пространств вместе с рекою опять нырнуть под полог лесов. Правый высокий берег почти везде покрыт дубняком. Это тот самый дорогой корабельный лес, на котором царь Петр остановил взгляд, выбирая место для первой российской верфи. Валили тут лес и позже на разные нужды. Подымали, к примеру, Воронеж из пепла после войны. И это, конечно, не было для реки благом. Но там, где оставлен реке шатер из деревьев, она сразу преображается – плесы, хорошая глубина, признаки дикой жизни по сторонам.
Левый берег, как правило, низок. Растут тут черный ольшаник, осина, ивы, черемуха, а на песчаных сухих возвышениях – сосны. Нам показали низину, где будто бы плотник-царь заблудился, приехав сюда на охоту. Таких болотистых мест по Воронежу сейчас мало. («Все сохнет почему-то, все сохнет…» – лесник из села Излягоще.) И все же вспоминаем участок (далеко выше Липецка), где показалось: плывем Амазонкой. Топкие берега, упавшие в воду деревья, пахучие заросли водных растений, дразнящие крики птиц. Казалось, вот-вот под дюралевым днищем всплывет крокодил…
Ближе к Воронежу правый берег становится выше и круче. Вверх от воды тянутся тропы людей, террасы многолетних прогонов скота. Гуси по вечерам строем, неторопливо, как альпинисты, одолевают возвышенность. Иногда крутизна кудрявится лесом – дубы, вязы, дикие груши. А лысую гору частенько венчает кирпичная ветхая колокольня или кряжистый дуб, помнящий время строительства кораблей. В трех-четырех местах берег к воде обрывается глиняным скосом. Почти стена глины. Плывешь, плывешь – далеко видно красноватый обвал земли…
Где-то возле Рамони чувствуешь набухание реки. Течение становится еле заметным и потом совсем пропадает. Вода подернута ряской, как в старом озере. У села Чертовицкого река покидает привычные берега, реки уже нет – разлив воды, похожий на половодье. Летают чайки. Пучки травы выдают мелководья. Для лодок обозначен фарватер. Это место рекой уже не зовут. Это «море», образованное плотиной. Считать ли благом эти «моря» – дело спорное. Бесспорно одно, это была неизбежность: отощавшая река не могла уже напоить бывшую колыбель флота – огромный индустриальный Воронеж.
На Чудовском кордоне нас встретила заплаканная женщина. Утирая фартуком слезы, она сказала:
– Волки…
Оказалось, только что в километре от дома на лесном выгуле волки зарезали двух телят.
В Дальнем егерь, которому мы рассказали про этот случай, не удивился.
– Их тут с десяток…
Загибая пальцы, егерь перечислил урон от волков. Получилось: двенадцать телят, восемь овец, пять лосей, три оленя и две косули. За лето. И это лишь то, что ему, егерю, удалось обнаружить.
Полагалось сочувствовать, но мы почему-то обрадовались: лес, который нас окружал, был не пустынен. Жили в нем даже волки, было на кого волкам и охотиться…
Тарахтение мотора не способствует встрече с глазу на глаз со зверем. И все же однажды мы видели: реку неторопливо вброд перешли два оленя. Видели лося в ольшаниках. Слышали, как в крапивные заросли с визгом, натыкаясь один на другого, ринулись кабаны.
За Дальним, на мокром илистом берегу, обнаружили место пиршества выдры: четкий след зверя и плавники рыбы. Там же над пойменной старицей летала редкая теперь птица скопа. Два рыболова – летун и ныряльщик, оба очень чувствительные к присутствию человека, тут сохранились, находя, как видно, покой и пищу в достатке. (Это все там же, в районе возможного заказника!)
Бобры с присутствием человека мирились. Их лазы на берег мы видели часто и почти на всем протяжении реки, иногда вблизи от палаток туристов и рыбаков. Присутствие бобров мы иногда проверяли простым приемом. Удар веслом по воде – и сейчас же в ночи ответное: бух! Бух! Бобры поспешно ныряли, ударяя хвостом по воде.
У места впадения в Воронеж Становой Рясы бобры не дали нам спать. Как видно, их беспокоил хороший храп в одной из палаток, и они то и дело поднимали тревогу…
Более всего пленки мы извели, снимая парящих над поймой канюков, луней и берег, изрытый норками щурок и ласточек.
На одной из стоянок вечер и утро наблюдали, как лунь кормил четырех почти уже взрослых лунят. Родитель возвращался с охоты с мышью или лягушкой. Лунята, сидевшие в камышах, за палатками, с жалобным верещанием подымались к нему навстречу, и в воздухе разыгрывалась одна и та же сцена. Старик на лету выпускал добычу из лап. Лунята, кувыркаясь, ловили ее на лету. Они были все одинаковы: коричневато-бурые птицы-подростки, и мы не сумели определить, достается ли пища самым проворным, или действовал все же какой-то скрытый от нас механизм справедливого дележа?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу