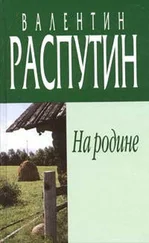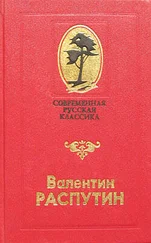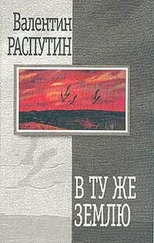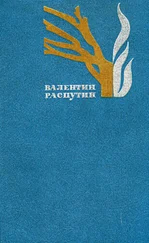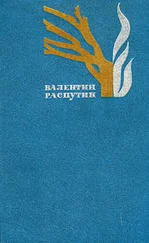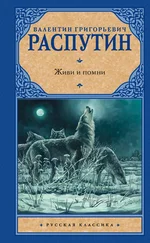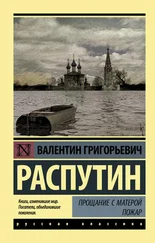Уж чего-чего, а послабления своему народу русские художники не делали (Абрамов ли с его гневом на односельчан, Астафьев с его «Печальным детективом», Распутин с его «Пожаром» и «Матерой»), но и как пасынки себя не вели, высокомерия и хамства по отношению к вскормившему их роду не позволяли. Это всегда было отношение именно сыновне-отцовское, со всею диалектикой этих понятий - по-сыновьи любить и по-отечески спрашивать. Или, как писал тот же Лесков, «понимать свое время и уметь действовать в нем сообразно лучшим его запросам - это не значит раболепствовать перед волей масс, нет, это значит только чувствовать потребность “одной с ним жизнью дышать”».
Серьезность спроса проистекала как раз из неравнодушия, из того, что одной-то жизнью можно жить только со здоровым народом. А здоровым быть у народа в последние десятилетия и не выходило. При этом не всегда можно укрыться за спасительной ссылкой на исторические обстоятельства, хотя, конечно, Россию они увечили больше, чем какое-либо другое государство. Но что-то, кроме злой воли истории, еще было тому причиной, что-то в самом строе нашего характера. Прочитав даже только «Прощание с Матерой» и «Пожар», можно частью предположить - что именно. Это скорое согласие с произволом, это с давних пор укрепившееся фаталистическое чувство, с которым русский человек взаимодействует с судьбой, смиряясь с нею, но страстно и глубоко обосновывая внутреннее несогласие.
Я говорю о нынешнем человеке и о том его предшественнике, который этого нынешнего приготовил: о человеке, пошедшем за прогрессом, за той самой Европой, которая нам все не дает покоя, для чего человеку пришлось отступиться или поступиться своей целостностью, органическим всеединством, которым владели даже в глаза не видавшие книги, а только заветом отцов и Церкви воссоединенные с миром распутинские крестьянки. А теперь вот эту целостность, которая прежде давалась житейским наследованным опытом, приходится восстанавливать или, скорее, обосновывать, переводить в книжное знание. Беганье за Европой оказалась опасным, и книжное знание на месте живого опыта скоро и окончательно расслоило народ.
В результате, как писал любимый и часто цитируемый Распутиным В. В. Розанов на полях «Легенды о Великом инквизиторе», дело неизбежно кончается тем, что «никакая общая мысль не связует более народов, никакое общее чувство не управляет ими - каждый и во всяком народе трудится только над своим особым делом. Отсутствие согласующего центра в неумолкающем труде, в вечном созидании частей, которые никуда не устремляются, есть только наружное последствие этой утраты жизненного смысла».
Распутин опытом «Денег для Марии», «Пожара» и особенно опытом постоянных своих работ по защите живого мира (равно Байкала и человека, чуть приходящей в себя в начале девяностых Оптиной Пустыни и родного словаря) пришел после чтения «Легенды» к выводам, которые были еще менее оптимистичны: «Человек не выдержал своего предназначения. Он себя не выдержал, своих противоречий, которые хотелось скорее примирить, и при -мирить он их взялся необременительным образом “поверх добра и зла”. Так было проще, чем побеждать в себе зло. Оно так долго не побеждалось, что он счел себя уставшим и свободным от борьбы».
В «Пожаре» технология этого примирения обнаружена с несколько даже прямолинейной наглядностью, да и весь историко-публицистический его материал был подтверждением этого тяжелого для души и вызывающего сопротивление вывода. Розанов, в сущности, тут и останавливался, но Распутин ведь не в воображении нашел и старуху Анну, и Настену, и Дарью, чтобы смириться на горьком удовольствии от этой жестокой правды. Он ни от чего не отворачивает глаз: «Посмотрите, чем занято общество: химизация, политехнизация, научная организация, сейчас компьютеризация. И только одним оно не занято - гуманизацией, еще не отмененной окончательно, но загнанной в такой угол, откуда шепот ее почти не слышен».
Но он своих великих героинь из памяти не выпускает и работы товарищей читает достаточно внимательно, наконец, родную веру, ее подвижников и молитвенников полно знает, чтобы вновь и вновь выводить к надежде, обретенной не в самообмане, а в голосе родных пространств и их насельников, героев и прототипов своих. «Если человек все еще человек... он не сможет согласиться с одной лишь плотью. И востребует он: “Дух! Дайте мне дух! - или я откажусь от своих учителей, прокляну новые божества, лишившие меня духа!” И произойдет это тем скорей, чем скорей человек будет накормлен. Религия потребительства, пытающаяся встать над всеми религиями мира, которой все еще соблазняется человек, не может иметь будущего».
Читать дальше