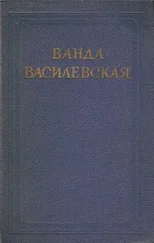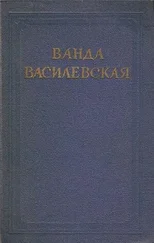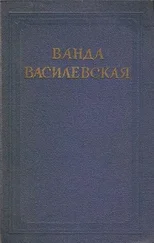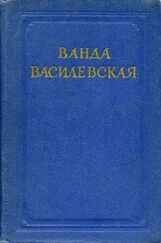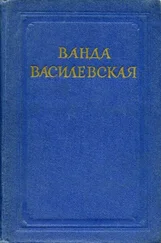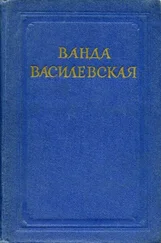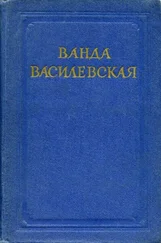А здесь ничто не восстановлено. На почерневших руинах на видно даже травы. Хотя нет, вон там, вдали, заметны какие-то строения. Значит, что-то здесь все же есть. Что-то новое. О, да! Мрачные, грязно-оливкового цвета дома с одинаковыми отверстиями окон, дома, вытянутые в нитку, как шеренга солдат. Печальные, мрачные дома. Вокруг них нет ни одного садика, пи одного цветка, ни одного деревца. Дом на пустыре, на холмах песка и мусора. Это дома для рабочих. Но и они быстро кончаются. А дальше — бараки, бараки, бараки, кривые, деревянные, грубо, наспех сколоченные бараки. Крохотные, будто для кукол, избушки, в каждой комнатенке семья. Это рабочие бараки, это-место, где круглый год живут, где родятся и умирают французские рабочие. В летнюю жару, от которой не спасают тонкие стены и часто дырявая крыша; в зимние холода, от которых не спасают те же тонкие стоны и та же дырявая крыша.
Зато при выезде за город ваш взгляд поражают какие-то великолепные, совершенно новые здания. Километрами тянутся гигантские, сверкающие серебристым металлом цистерны. Вздымаются огромные дома, видна свежая штукатурка, она не успела еще даже запылиться. Вы облегченно вздыхаете: наконец-то, жизнь!
Да, да. Прочтите, однако, надписи над входом в этот город. Пред вами английские и американские нефтеперегонные заводы. Сюда, в широкое устье Сены, входят с моря танкеры, везущие нефть из Ирака. Здесь эту нефть очищает и перерабатывает французский рабочий, тот самый французский рабочий из деревянных бараков, который работает на американских и английских господ. А затем во всех бензоколонках Французы покупают по дорогой цене горючее.
Развалины французского города, нищета французского рабочего — и великолепные заводы, неслыханно обогащающие иностранных колонизаторов. Там, где кончаются развалины и бараки, начинается иной мир — мир техники, строительства, мир благосостояния и богатства. Впрочем, об этом следовало бы сказать иначе: там, где вырастает во Франции этот великолепный чужеземный мир, — там начинаются руины французских городов и руины французской жизни.
Вот деревня. Французская деревня, совершенно непохожая на нашу. Группка каменных домов среди полей, домов, ревниво охраняемых высокими каменными стенами и непроницаемыми дощатыми заборами. Всякий дом — как крепость. Нам удалось проникнуть в некоторые из этих крепостей.
Мне случалось бывать в разных деревнях: в зажиточных и бедных, в красивых и некрасивых. Но я ручаюсь, что можно обойти, скажем, всю Украину и нигде не увидеть того зрелища, какое десятки раз открывалось нашим глазам за заборами домов французских крестьян.
Грязный, занавоженный двор. Облупившаяся штукатурка. Растрепанная соломенная крыша. Вы удивлены? Я тоже удивилась. Совершенно обыкновенная, соломенная крыша, только очень старая и очень обветшалая. И в ней огромная дыра. Нет, снаряд упал сюда не сегодня, а несколько лет назад, когда англо-американские войска высадились на континенте. Но никому и в голову не пришло поставить лестницу, влезть на крышу и заткнуть эту дыру снопом соломы или первой попавшейся доской. Минутами кажется, что старый народный предрассудок, который не позволяет гасить пожар, вспыхнувший от удара молнии, возродился здесь в какой-то новой форме: не тронь того, что разрушено во время войны.
Полуразрушенные хлевы, конюшни с висящими на одной петле дверями, лужи, наполненные густой грязью, перед самым порогом дома — вот что скрывают за собой высокие стены и заборы. Что же случилось? Где та французская деревня, о которой мы слышали, читали? Богатая, жиреющая от благосостояния деревня. И это тоже уже отошло в далекое прошлое. Во всяком случае, для тех деревень, которые расположены неподалеку от Парижа и на север от него. То есть в деревнях, которые, казалось, должны были бы процветать, поставляя огромному городу свои продукты. Казалось бы! Но прошлой осенью крестьяне вообще не стали собирать с огородов великолепный урожай. Под зимними дождями сгнили превосходные помидоры, прямо-таки фантастические по величине головки цветной капусты, изысканнейшие овощи, посаженные в надежде продать их в Париже. Оказалось, что их не стоит собирать.
Между потребителем и продавцом стоит цепь организованных посредников. Крестьянин получает гроши, однако это вовсе не означает, что сельскохозяйственные продукты в Париже действительно дешевы. Нет, они там дороги. Но, несмотря на это, в Париже существуют огромные «ножницы» между стоимостью промышленных товаров и сельскохозяйственных продуктов. Даже принимая во внимание все прибыли бесконечной цепи посредников. Но сам-то крестьянин получает от самого последнего посредника за весь свой годовой труд такую сумму, на которую нельзя купить решительно ничего из промышленных товаров. Ему просто не стоит трудиться. Вот откуда эти валящиеся дома, эти оборванные дети, эта нищета «богатой» французской деревни. А вместе с нищетой нарождаются гнев, ненависть.
Читать дальше