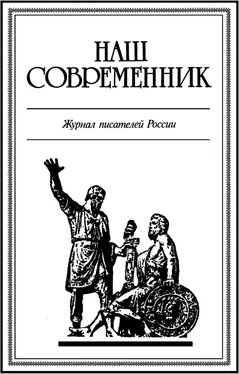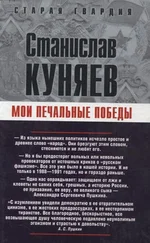История не терпит суесловья.
Трудна её народная стезя.
Её страницы, залитые кровью,
Нельзя любить бездумною любовью
И не любить без памяти нельзя.
Нельзя не восхититься ещё одной особенностью поэтического мира Ярослава Смелякова. В то время, когда и Твардовский, и Ахматова, и Заболоцкий, и Мандельштам, и Пастернак, кто из “страха иудейска”, кто искренне, вписывали свои стихи в “сталиниану”, Ярослав Смеляков, восхищавшийся героикой сталинской эпохи и казавшийся в 1960-е годы каким-то не желающим пересматривать свои взгляды “мамонтом пятилеток”, посвятил вождю лишь одно стихотворение, да и то после смерти Сталина, да и то не назвав его даже по имени. А стихотворенье особенное, смеляковское, где вождь очеловечен особым образом:
На главной площади страны,
невдалеке от Спасской башни,
под сенью каменной стены
лежит в могиле вождь вчерашний.
Над местом, где закопан он
без ритуалов и рыданий,
нет наклонившихся знамён
и нет скорбящих изваяний,
ни обелиска, ни креста,
ни караульного солдата —
лишь только голая плита
и две решающие даты,
да чья-то женская рука
с томящей нежностью и силой
два безымянные цветка
к его надгробью положила.
(1964)
Вот так попрощался Смеляков со Сталиным.
К российской героической трагедии XX века он, как никто другой, прикасался бережно и целомудренно. Вот почему он останется в нашей памяти изумительным поэтом, подлинным русским Дон-Кихотом народного социализма, впрочем, хорошо знавшим цену, которую время потребовало от людей за осуществление их идеалов.
Строительство новой жизни по напряжению, по вовлечению в него десятков миллионов людей, по степени риска, по цене исторических ставок было деянием, которое сродни разве что великой войне. А кто, какой историк скажет о войне масштаба 1812 или 1941 года: подневольно ли в такого рода событиях приносятся в жертву миллионы людских судеб или они живут стихией добровольного самоограничения и самопожертвования? Естественно, что в такие времена над людским выбором властвует и та, и другая сила — и принудительная мощь государства, и то, что называется альтруизмом, героизмом, аскетизмом, самопожертвованием.
И всё-таки, в конце концов, именно свободная воля решает исход великих войн и строительств. Не мысль о штрафбате и не страх перед заградотрядами заставлял солдата цепляться за каждый клочок сталинградского берега, как бы ни тщился Виктор Астафьев доказать обратное. Мой отец погиб голодной смертью в Ленинграде, но сейчас, перечитывая его последние письма, я понимаю, что он был человеком свободной воли. Смеляков знал о таинственном законе добровольного самопожертвования, когда размышлял о судьбе своего поколения во время “незнаменитой финской войны”:
Шумел снежок над позднею Москвой,
гудел народ, прощаясь на вокзале,
в тот час, когда в одёжке боевой
мои друзья на север уезжали.
Как хочется, как долго можно жить,
как ветер жизни тянет и тревожит!
Как снег валится! Но никто не сможет,
ничто не сможет их остановить…
* * *
Одно из самых злобных и карикатурных изображений Сталина вышло изпод пера Александра Галича, человека, не сидевшего в лагерях, не воевавшего, благополучного во всех смыслах. В зарифмованном песенном фельетоне “Ночной дозор” Галич-Гинзбург просто из кожи вылез, чтобы переплюнуть в своём глумлении и Окуджаву, и Высоцкого:
Вижу: бронзовый генералиссимус
Шутовскую ведёт процессию!
Он выходит на место лобное —
“Гений всех времен и народов!” —
И, как в старое время доброе,
Принимает парад уродов!
О Галиче как о дельце и бесталанном сочинителе пьес и сценариев с брезгливостью вспоминали его современники — и русские, и еврейские. Илья Глазунов в книге “Россия распятая” вспоминает, как Борис Слуцкий с сарказмом предлагал ему, чтобы хорошо заработать, вступить в деловые отношения с Александром Галичем: “Вы должны нарисовать жену самого богатого писателя Саши Галича”.
С Галичем я встретился один раз. Случайно. В 1962 году бригада из трёх поэтов — Арсений Тарковский, Владимир Корнилов и я — поехала выступать в Латвию. Остановились в гостинице “Рига” и в коридоре встретили лощёного мужчину с усами, выводившего из своего номера местную путану. Корнилов и Тарковский поздоровались с этим человеком, перекинулись несколькими словами, а когда отошли от него, я спросил, кто он. Импульсивный Корнилов с раздражением ответил мне: “Это Галич! Всю жизнь при Сталине безбедно прожил на своих конъюнктурных пьесах и сценариях, а теперь ещё и чистой славы захотелось, песенки стал сочинять…”
Читать дальше