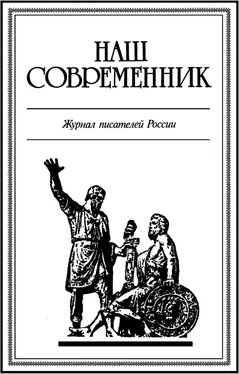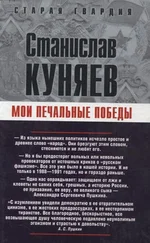Как всё это не похоже на молодое предвоенное кипенье, на “это есть наш последний.”! К атеистическому скепсису сделан громадный шаг, а к Новому Завету, к Вере, к Христианству ни на волосок не сдвинулась душа Слуцкого, в отличие от души Пастернака, Заболоцкого или Ахматовой. Даже умирающий Пушкин у него живёт в углу, где ни одной иконы, — “лишь один Аполлон”. А потому и приходит состояние внутреннего опустошения:
Нету надежд внутри жизни, внутри
века, внутри настоящего времени.
Сможешь — засни, заморозься, замри
способом зёрнышка, малого семени.
Быстрое осознание того, что вся жизнь положена на алтарь безнадёжного дела, всё чаще и чаще навещало его, разъедая оболочку убеждений, казалось бы, скроенных из нержавейки. Нержавейка (как на скульптуре Мухиной) расползалась, и из трещин её время от времени слышались глухие признания: “Я строю на песке”, “Сегодня я ничему не верю”, “Но верен я строительной программе”… Самое страшное заключалось в том, что драма была не духовной, а идеологической. Конструкции его внутреннего мира, скроенные из атеистического материализма, настолько окостенели, что когда поэт понял, что идея социальной справедливости неосуществима, то у него, в сущности, остались только два пути для исхода: смерть или помутнение рассудка… Судьба предназначила ему второе, пощадив, как Ивана Бездомного…
* * *
Слуцкий был фанатичным прагматиком, уверенным в том, что важна лишь история, творящаяся сегодня, при его жизни, что всё, что было и быльём поросло, уже не влияет на сегодняшнюю “злобу или доброту дня”.
Бериевская амнистия — да, это живое время, 1956 год, XX съезд КПСС; то же послевоенное перенапряжение сил — его эпоха, четыре года войны — главное в жизни, а всё остальное уже как бы на том берегу Леты, уже отрезано навсегда, уже не будет ни сил, ни желания ворошить и пересматривать эти геологические пласты.
А всё довоенное является ныне
доисторическим,
плюсквамперфектным, забытым и,
словно Филонов в Русском
музее, забитым в какие-то ящики…
Стихи, полные усталости и исторического пессимизма, в который переродился пафос социалистического строительства.
Но после его смерти история зашевелилась, словно бы спрыснутая живой водой. Ожило время с красным и белым террором, с геноцидом казачества, с жестокостью местечковых “комиссаров в пыльных шлемах”, с расстрелом царской семьи и Соловками, с Беломорканалом, с мемуарами изгнанников первой русской эмиграции. История кричит, митингует, жестикулирует, бушует в душе сегодняшнего человека. Слуцкий не смог вынести этого хаоса. В годы болезни они иногда звонил мне по телефону и спрашивал, что творится в мире. Потом молчал в трубку, потом наш разговор прекращался. Бедный Борис Абрамович… Он понимал или чувствовал, что я навсегда ухожу из сферы его притяжения. И не осуждал меня за это. Более того, когда я навестил его в психиатрической лечебнице незадолго до смерти, он, прощаясь со мной, неожиданно сказал:
— Вы, Станислав, из умнейших людей своего поколения.
На мой вопросительный взгляд, почему он так думает, Слуцкий не ответил, лёг на больничную постель и закрыл глаза.
* * *
Когда пришёл час прощаться с ним, к гробу пришли люди противоположных, можно сказать, враждующих убеждений и мировоззрений: Вадим Кожинов и Владимир Огнев, Анатолий Передреев и Давид Самойлов, Александр Межиров и Станислав Куняев.
Потому-то над его гробом, прощаясь с ним, я сказал приблизительно следующее:
“Чем был дорог нам Борис Абрамович Слуцкий? Тем, что он был крупным талантом в нашей поэзии, тем, что он был человеком чести и слова, дорог своей прямотой и своей заботливостью о тех, кто был рядом с ним, своим аскетизмом и, что, может быть, нужнее всего сегодня для каждого из нас, — своим бесстрашием перед жизнью и её роковыми вопросами. С убеждённостью истинного поэта он ставил перед собой неразрешимые задачи — социальные, государственные, культурные, национальные. А для разрешения их у него был лишь один нежнейший инструмент — слово человеческое… И сколько в результате этой драматической борьбы, происходившей в его душе, он оставил нам замечательных стихотворений.
Старух было много, стариков было мало,
то, что гнуло старух, — стариков ломало,
старики умирали, хватаясь за сердце,
а старухи, рванув гардеробные дверцы,
доставали костюм — дорогой, суконный,
покупали гроб — дорогой, дубовый,
и глядели в последний, как лежит
их законный,
прижимая лацкан рукой пудовой…
Читать дальше