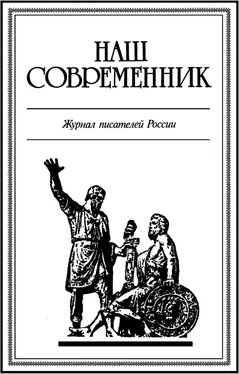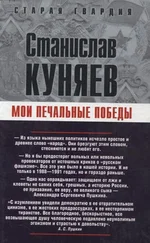…С тех пор прошла целая жизнь. И недавно, выходя из нашего писательского дома на Красноармейской улице Москвы, я увидел на приступочке стопку книг, которую за ненадобностью выложил перед выходной уличной дверью кто-то из жильцов, у которого рука не поднялась отнести книги на помойку… Я из печального любопытства стал перебирать стопку, и вдруг одна из книг словно бы обожгла мою руку: это была книга Бориса Слуцкого “Работа” (М.: Советский писатель, 1964). У меня такой книги не было. Мелькнула мысль: “Возьму сборник себе!” Но, отогнув обложку, я прочёл: “Юре Рюрикову в надежде славы и добра (без боязни), Борис Слуцкий”. Я понял, что родные покойного журналиста Рюрикова, который жил в одном подъезде со мной, вынесли эту стопку книг с надеждой, что последние ценители литературы в нашем писательском кооперативе не пройдут мимо. То, что Борис
Абрамович сделал на сборнике такую же дарственную надпись, что и на книге, подаренной мне, меня не расстроило. Но меня ошеломило то, что на моих глазах разрушалась вера Слуцкого в силу поэтического слова, вера, о которой он писал в 50-е годы:
Покуда над стихами плачут
и то возносят, то поносят,
покуда их, как деньги, прячут,
покуда их, как хлеба, просят,
до той поры не оскудело,
не отзвенело наше дело,
оно, как Польша не сгинела,
хоть выдержало три раздела.
Помню, как мы вместе с Кожиновым и Передреевым восхищались этими стихами, этой силой слова, которое в тот чёрный день лежало на ступеньках передо мной, обездушенное и обесчещенное… Как тут не позавидовать Борису Абрамовичу, избегнувшему унижения лицезреть заветную книгу своих стихотворений на грязном полу возле уличной двери дома, где до сих пор живут состарившиеся, как и я, писатели или их вдовы, или их дети.
Но справедливости ради надо признаться, что я, поверивший, будто хорошо знаю Слуцкого, во многом ошибался. Да, Слуцкий действительно был для меня советским поэтом, писавшим стихи о нашей трудной победе в кровопролитной войне, поэтом, воспевавшим вчерашних солдат, одолевших засуху сорок шестого года, поэтом, преклонявшимся перед вдовами, танцующими в деревенском клубе со своими подругами, потому что их мужья не вернулись с войны. Он умел даже в стихах об общественной бане, узрев, сколько ран и шрамов нанесено войною на тела обнажённых русских мужиков, воздать должное их судьбам. Но полностью узнать глубину его судьбы и его понимания жизни мне пришлось, к сожалению, лишь после смерти поэта — в годы перестройки, когда были опубликованы многие его стихи, к которым советская цензура была беспощадна, когда вышла книга воспоминаний о нём и о его родословной, когда книга с заголовком “Борис Слуцкий” была издана в серии ЖЗЛ. Но самая важная книга, вышедшая после смерти поэта, была названа строчкой из его стихотворения “Теперь Освенцим часто снится мне”. Без неё понять духовные и душевные метания Слуцкого невозможно… Лишь после этих изданий русско-еврейский узел, всю жизнь болезненно и скрытно волновавший поэта, стал доступен для понимания историков, литературоведов, да и просто читателей. А начинал завязываться этот узел для Слуцкого ещё в его детские годы.
Есть у этого сурового реалиста и честного историка стихотворение, чрезвычайно важное для него, которое я назвал бы гимном “уравниловке”:
Я родился ладным и стройным,
с голубым огнём из-под век,
но железной десницей тронул
мои плечи двадцатый век.
Он одел меня в парусиновое,
в ватно-стёганое одел,
лампой слабою, керосиновой
осветил, озарил мой удел.
Если я из ватника вырос
и надел костюм выходной,
значит, общий уровень вырос
приблизительно вместе со мной.
Вот иду я, двадцатилетний,
средний, может быть, ниже средний
по своей, так сказать, красе.
Кто тут крайний? Кто тут последний?
Я желаю стоять, как все…
Однако стать “как все” в неизбежной советской уравниловке 20-30-х годов юноше из местечкового еврейства было не так-то просто. Ольга Слуцкая — племянница поэта, дочь его брата Ефима — так вспоминает о жизни семейства Слуцких в украинском Славянске, за чертой оседлости: “Родители говорили на идише, отмечали еврейские праздники и тайно обучали своих мальчиков ивриту, — видимо, собирались уехать в Палестину. Братья деда перебрались туда ещё в 1919-м или 1920 году” (И. Фаликов. “Борис Слуцкий”. М.: Молодая гвардия, ЖЗЛ, 2019. С. 24)
Сложность жизни местечкового народа в 20-х годах прошлого века заключалась в том, что он разделился на два потока: один хлынул в национал-сионистскую революцию (Жаботинский, Вейцман, Бен Гурион, Менахем Бегин, Шимон Перес, Голда Меир и т. д.), другой, взломав черту осёдлости, ушёл в Великую Октябрьскую (Троцкий, Урицкий, Юровский, Голощёкин, Ягода, Розалия Землячка и т. д.) Разделилось, влившись в эти потоки, и семейство Слуцких, о чём биограф поэта пишет в ЖЗЛовской книге с точностью историка и пониманием соплеменника: “Может быть, лучшим поступком Абрама Наумовича Слуцкого, отца поэта, было его решение о неотъезде в Палестину, куда уехали его родственники, в том числе его брат Хаим (1920). Русская лирика получила Бориса Слуцкого, израильская безопасность — Меира Амита (родившегося в 1921 году кузена Бориса), начальника военной разведки “Аман” и директора внешней разведки “Моссад”, а до того доблестного воина на полях сражений Израиля за независимость”, “Еврей, рождённый в Славянске, родился поэтом, поэтом русским. Няня Аня прибилась к Слуцким ещё в Славянске. Слуцкий никогда не говорил об этом городе, не упоминал его в стихах, а мог бы. Не хотел”, — пишет Илья Фаликов. Но иметь няню — означало жить уже в детстве иной, привилегированной жизнью, “не как все”. Да и “родиться поэтом, поэтом русским” в семье, говорящей на идише, тоже было неким исключением, а не правилом. И не случайно Слуцкий никогда не вспоминал о жизни в Славянске и “не упомянул его в стихах”, наверное, потому, что понимал: “уравниловкой” такие повороты в судьбе не объяснишь. Да и сам автор книги о Слуцком понимает, что переезд семьи Слуцких из Славянска в Харьков был событием по тем временам необычным и чрезвычайным, открывшим широкие перспективы для юноши из иудейской местечковой среды: “Причина переезда Слуцких в Харьков нам не известна. Можно предположить, что у отца семейства не складывались в этом курортном городишке, истерзанном бандами, его торговые дела. Появление ребёнка требовало более цивилизованного места обитания”… А это уже не “как все”.Точно так же о своей местечковой родословной не хотели вспоминать ни Межиров (о Чернигове), ни Самойлов (о Варшаве), поскольку все они мечтали, чтобы столичное общество признало их “русскими поэтами” с чистого листа. Когда же молодой Слуцкий в элегантном костюме, в отглаженной рубашке с галстуком (отнюдь не в “парусиновом” и “ватно-стёганом”) приехал из Харькова в Москву в зловещем 1937-м, чтобы сразу беспрепятственно (нэповское происхождение!) поступить в два знаменитых вуза — в Московский юридический и в ИФЛИ, — то, по словам его биографа, он “писал беспрерывно, и это было связано с любовью к Вике Левитиной, сокурснице-юристке. Ей он показывал плоды своих вдохновений, из которых она узнавала о яростной преданности революции, о беспощадности к врагам, о хождении по лезвию в чекистской тематике, о подавленной еврейской ноте, о жажде славы, наконец”.Ну, как тут не вспомнить Эдуарда Багрицкого с его “яростной преданностью революции” (“о, мать-революция, нелегка // трёхгранная откровенность штыка”),с его “хождением по лезвию в чекистской тематике”(разговор Багрицкого с Дзержинским в стихотворении “ТБЦ”), с бунтом Багрицкого против местечкового быта, который загоняет в душевные глубины поэта все комплексы “блудного сына”:
Читать дальше