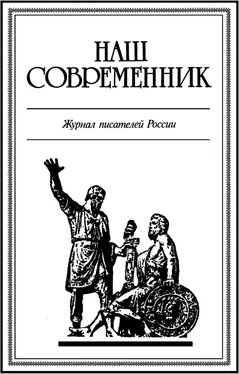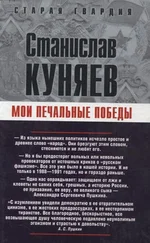Но “к предательству таинственная страсть” обжигала души не только посетителей “Русского самовара”, приехавших на берег Гудзона. Они были отравлены ревностью друг к другу, ещё живя на просторах ненавистной им “Рашки”. Читаешь воспоминания “дочерей оттепели” и “сыновей Арбата” и поражаешься тому, что они, демонстрируя своё единство на публике, или на встречах с партийным начальством, или в подлом письме “42-х”,— когда оставались один на один с листом бумаги, то погружались в стихию “предательства” и взаимоиспепеляющей ревности.
Из “Дневника” Ю. Нагибина:
“А Б. Ахмадулина недобра, коварна, мстительна и совсем не сентиментальна, хотя великолепно умеет играть беззащитную растроганность. Актриса она блестящая, куда выше Женьки, хотя и он лицедей не из последних. Белла холодна, как лёд, она никого не любит, кроме — не себя даже, а производимого ею впечатления. Они оба с Женей — на вынос, никакой серьёзной и сосредоточенной внутренней жизни. Я долго думал, что в Жене есть какая-то доброта при всей его самовлюблённости, позёрстве, ломании, тщеславии. Какой там! Он весь пропитан злобой. С какой низкой яростью говорит он о ничтожном, но добродушном Роберте Рождественском! Он и Вознесенского ненавидит (…), и мне ничего не простил. 3 сентября 1972 г<���ода>.”
Из книги В. Аксёнова “Таинственная страсть”:
“Давно уж с такой мерзостью, как никарагуанские мемуары Евгения Евтушенко, не сталкивался. Он всё ещё за свободу, оказывается, борется, гипертрофированный пошляк”.
Слова И. Бродского из главы В. Соловьёва “Иосиф в Египте”:
“Вознесенский — это явление гораздо более скверное, гораздо более пошлое. В пошлости, я думаю, иерархии не существует, тем не менее Евтушенко — лжец по содержанию, в то время как Вознесенский — лжец по эстетике. И это гораздо хуже”.
А об Александре Кушнере Иосиф Бродский вообще отозвался с беспощадной жестокостью, возможно, потому, что последний никуда не эмигрировал, остался в Петербурге и, в сущности, выполнил завет Бродского: “Ни страны, ни погоста // не хочу выбирать. // На Васильевский остров // я приду умирать.”. Этого поворота судьбы Иосиф ему не простил: “…Кушнер, которого я до сих пор ставлю ниже остальных, хоть он и был очень популярен, и еврей… Посредственный человек, посредственный стихотворец… Крошка Цахес”.
Из “дневника Ю. Нагибина”:
“Была Марина Влади, рассуждала о женском онанизме. Пришёл Высоцкий, дал ей по морде, и они ушли”.
Из книги В. Соловьёва “Не только о Евтушенко”:
“Ночевал в Педелекино на даче у Евтушенко. Евгений Александрович строго-настрого приказал мне не открывать Ахмадулиной, если она будет стучаться в дверь… — Смотри, — сказал он. — она за бутылку с тобой в постель ляжет. Так что не открывай”.
А Иосиф Александрович с высоты своего нобелевского положения язвительно дразнил и евреев, и русских, и патриотов, и космополитов, и коммунистов, и сионистов, и если верить Владимиру Соловьёву, написавшему “Запретную книгу о Бродском”, с провокационной смелостью высказывался “по еврейскому вопросу: “XX век сплошь жидовизирован”, “русская литература изрядно проперчена еврейским присутствием. Как минимум, пятьдесят процентов из тех, кто в этом веке считал себя поэтом, были евреями”, “кем угодно могу себя представить в другой жизни: мухой, червём, мартышкой, камнем. Даже женщиной. А вот гоем — никак”.
“Кончается жидовский век. Век трагедии и триумфа. Трагедия и есть Триумф. Что имена перечислять — жизни не хватит! Главное имя — Гитлер. Куда мы без него? Он сделал наши претензии обоснованными, сметя с пути препоны. Мой тёзка ему тоже пособил — не без того. После Холокоста любое проявление антисемитизма стало преступлением против человечества, что и развязало нам руки”. “Протоколы сионских мудрецов” на самом деле подлинник, евреи тайно гордятся ими и пользуются, как шпаргалкой…”
(Из книги В. Соловьёва Post Mortem. Запретная книга о Бродском. М.: РИПОЛ-классик, 2006).
После всего сказанного недоумеваю: зачем “юдофил” Евтушенко набивался в друзья к Иосифу? Слава Богу, что Иосиф отвернулся от него и не захотел мириться с воплями Евгения Александровича о том, что он в одиночку противостоит “мировому заговору” “черносотенцев” всех стран. А что касается любви к родному пепелищу, то Бродский противостоял этому пушкинскому завету весьма изощрённо: “Мне нечего сказать / ни греку, ни варягу, // зане не знаю я, / в какую землю лягу. // Скрипи, скрипи, перо, переводи бумагу…” Это было перекличкой сразу с двумя знаменитыми пушкинскими изречениями. “Грек и варяг” Бродскому были нужны для того, чтобы читатель его стихотворенья вспомнил пушкинское хрестоматийное:
Читать дальше