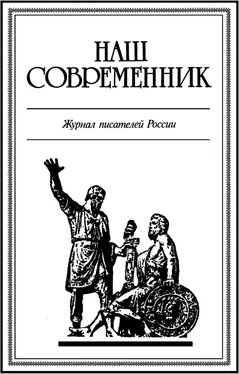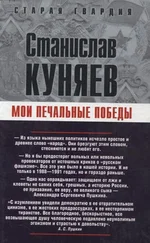Как он меня любил! Помню, жили мы в Белорусском военном округе, на границе с Польшей… Какие балы для офицерского состава муж устраивал! Сколько молодых офицеров вокруг меня увивалось… Лошадь у меня была своя, дамское седло — и вот представьте: я на лошади, в длинном платье, а за мной целая кавалькада молодых людей в военной форме… А потом я стала кататься по-мужски, в мужском седле! Лихачка я была, лихачка! Словом, жила “средь шумного бала”.
Но мужа перевели в Москву, и поселились мы в Столешниковом переулке, в доме из двух квартир, как сейчас говорят, на двух уровнях… А в тридцать седьмом мужа послали в Минск, в командировку, ликвидировать какойто заговор в связи с испанскими событиями. Отдельный вагон, их семь человек, я провожаю их с Белорусского вокзала, и вот, представьте себе, меня с вокзала секретарь мужа везёт не домой, а в Бутырскую тюрьму… А мужа с его штабом, как я потом узнала, взяли в дороге, до Минска он не доехал… (Позже я узнал, что её муж — одессит по фамилии Карелин — был действительно в те годы крупным военным чином. — Ст. К.)
В тюрьме срезали с моих туфель из змеиной кожи пряжки, чтобы вены себе не вскрыла, и представьте себе: хожу я каждый день по ночам на допросы в чёрном с блёстками платье, и туфли без пряжек цокают по цементу, и французскими духами от меня пахнет! Так все в тюрьме говорили, что на допросы по ночам водят красавицу — французскую шпионку!.. — Алла Израилевна захохотала от восторга. Отсмеялась, вытерла слёзы. — А муж покончил с собой в камере. Стёклами от очков перерезал вены. Меня, правда, выпустили через полтора года — настрого приказали, чтобы никому ни слова, где сидела…
Ах, как трудно мне жилось первое время. Вертинский, помню, говорил: “Всё, что угодно, но с авоськой выйти на улицу не могу!” Вот и я то же самое. Выпустили меня девятого февраля, в холод, во французском платье — чёрное, в блёстках, — в туфлях из змеиной кожи, без пряжек… Холод! Начальник распорядился: “Одеть её в телогрейку и женщину дать, чтобы довезла до дому”… А я как вышла за порог — и плечами так сделала, — Алла Израилевна повела плечами, — сбросила тюремную телогрейку! Весь трамвай на меня смотрел — откуда такая взялась, зимой в чёрном платье и в туфлях. Но я молчу, смотрю в трамвайное окно, головы не поворачиваю. Приехала к своему дому, а консьержка руками всплеснула и шепчет: “Куда вы, Алла Израилевна?! Мы тут плакали, глядючи, как женщины, то одна, то другая, в ваших туалетах выходили из вашей квартиры”. Это кэгэбэшницы приезжали, якобы для работы, искать чего-то в бумагах и в моих платьях уходили…
Жила я раньше, как птица в золотой клетке, а после тюрьмы устроилась кое-как машинисткой, угол сняла. Но не унывала. Один раз только заплакала. В моей квартире стояла мебель из Аничкова дворца. Не потому, что я требовала антиквариата, а потому, что так положено было. И вот когда меня освободили, еду я как-то с новым мужем — он у меня был кинооператор, а потом, после него, был ещё переводчик с каких-то европейских языков — ах, сколько покойников вокруг меня! — и вижу: в окне комиссионного магазина стоит моя мебель, с мрамором и инкрустацией… Тут я и заплакала. В первый раз за всё время!
Мы заканчивали нашу очередную прогулку. С Балтийского моря дул свежий ветер, серые волны с однообразным шумом набегали на скопища льда возле берегов, чайки вились над нашими головами, требуя привычных подачек. Одинокие фигурки людей маячили вдоль горизонта по громадному полукругу песчаной косы, теряющейся в туманной дымке. Пахло прелыми водорослями, солёным льдом, соснами…
— А что вы торопитесь в Москву, Алла Израилевна, продлите путёвку, поговорим ещё о былом, морем подышим…
Алла Израилевна кокетливо смеялась, прижимаясь плечом к моему плечу, — я прогуливал её под ручку, — поправляла мизинцем седой локон, выбившийся из-под шляпки…
— Нет, что вы! Мне пора домой, я соскучилась по своему обслуживающему персоналу: маникюрши, педикюрши, парикмахерши… Да и питание здесь весьма однообразное. Мне пора садиться на свою диету…
Много лет минуло с той поры, но я слышал, что Алла Израилевна ещё жива и работает в каком-то театре художником по костюмам, вернее, консультирует, поскольку сама на пенсии; но когда я вспоминаю о ней, то представляю её не иначе, как стремительно идущей по ночным, плохо освещённым бетонным коридорам Бутырской тюрьмы с поднятой головой, в чёрном французском платье с блёстками, в туфлях из змеиной кожи, с которых срезаны пряжки… Туфли цокают по цементному полу, будят женщин в соседних камерах, те припадают к глазкам и решёткам и шепчутся, что опять ночью, когда в тюремных коридорах тишина и безлюдье, на допрос водили красавицу, французскую шпионку, взятую чуть ли не с какого-то правительственного шумного бала…
Читать дальше