Параллельной линией развития ментальных карт в России было представление о «другой» Европе: сначала, после катастрофы Французской революции, Европе единого христианства и Священного Союза, а затем, со второй половины XIX века – Восточной Европы вокруг России. Это не то ориентализированное пространство, которое изобрел Запад, а, так сказать, наша Восточная Европа – славянская и/или православная. Разницу с «азиатчиной» четко обозначает «О Русь!.. Каким же хочешь быть Востоком: Востоком Ксеркса иль Христа?» Владимира Соловьева (1890).
При всей воинствующей риторике ведущей идеей тут было не столкновение, а традиционное для Европы равновесие, баланс. «Россия не иначе может занять достойное себя и Славянства место в истории, как став главою особой, самостоятельной политической системы государств и служа противувесом Европе во всей ее общности и целости», – это Николай Данилевский в «России и Европе» (1869). «Подле западной Европы, для общей деятельности с нею, явилась новая Европа, восточная, что сейчас же отразилось в Европейском организме», – напишет о петровской эпохе в своей «Истории России с древнейших времен» (1851–1879) С. М. Соловьев.
Главной угрозой балансу Европ стала восприниматься Германия с ее новыми амбициями. «До XVIII века, – продолжал Соловьев, – славяне постоянно отступали перед натиском германского племени, оттеснявшего его все более и более на восток», и послепетровская история представлялась как «реконкиста» захваченных «германством» земель. «Историческое движение наше с Днепра на Вислу было объявление войны Европе, вторгнувшейся в не принадлежащую ей половину материка» (панславист Ростислав Фадеев, 1869), а конечной целью должен был стать «освобожденный восток Европы». Концепт благополучно пережил революцию и возродился в виде «социалистического лагеря» стран «народной демократии» после 1945 года.
«Западники» же были убеждены в универсальности своих ценностей. В лексиконе русской демократической интеллигенции «западный» имеет однозначный политический подтекст. «Французы несомненно являются самым западным народом в том специальном смысле, который придается слову „Запад“ в нашей политической литературе», – пишет, к примеру, «Вестник Европы» в 1891 году, и читатель разумеет не расселение французов на краю континента, но степень демократии, либерализма и республиканства.
Образование. Образовательная модель России систематически выстраивается в позднеалександровское и николаевское время, при посредничестве небезызвестного министра графа С. С. Уварова, который гордится своим личным знакомством с Гёте и Гумбольдтами. Молодые русские преподаватели, как упомянутый выше Т. Н. Грановский, отправлялись на стажировку в немецкие университеты. Понятие образования именно в эту эпоху получает в интеллигентском лексиконе свое привычное нам значение.
Так же, как и с просвещением , к подвою термина из церковного лексикона («ничто тако образованну нашу устраяет жизнь, яже еси в церкви красование» Иосифа Волоцкого) прививают западный стебель. Вслед за французской цивилизацией/цивилизованностью , которая, как мы видели, для отдельной личности подразумевала прежде всего обхождение, манеры, наступил черед немецкого Bildung . Когда, еще попечителем столичного учебного округа, Уваров ставил задачей реформированного в 1819 году Санкт-Петербургского университета «образование человека наукою», это образование имело уже мало общего с допетровским термином и представляло собой кальку с европейских языков, прежде всего немецкого. Именно с тех пор образование в русском стало подразумевать активный компонент само образования, отсутствовавший ранее. Надо ли говорить, что это элемент центральный для самосознания позднейшей российской интеллигенции.
Уварова в немецком образованном слое привлекает «спокойствие» и «умеренность» ( ruhige Bildung ) середины. Его политика нацелена на создание лояльной «правительственной интеллигенции», и знаменитая триединая формула «Православие, самодержавие, народность» вписана в эту программу. Которая в реальности, однако, свелась к тому, что профессора должны были стремиться «сделаться достойным орудием правительства». По отношению к немецкому оригиналу все это выглядело уже как топорная кустарная копия. Образованный бюргер, немецкий ординарный профессор государство любил, но его «орудием» себя отнюдь не считал.
Читать дальше
![Денис Сдвижков Знайки и их друзья. Сравнительная история русской интеллигенции [litres] обложка книги](/books/431867/denis-sdvizhkov-znajki-i-ih-druzya-sravnitelnaya-i-cover.webp)
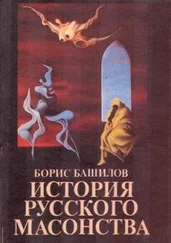


![Александр Бушков - Русский Шерлок Холмс [История русской полиции] [litres]](/books/386765/aleksandr-bushkov-russkij-sherlok-holms-istoriya-rus-thumb.webp)
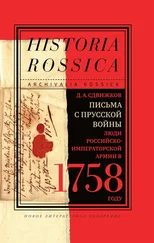

![Абрам Рейтблат - Классика, скандал, Булгарин… Статьи и материалы по социологии и истории русской литературы [litres]](/books/430777/abram-rejtblat-klassika-skandal-bulgarin-stati-thumb.webp)

