В масштабах европейского континента Россия считает себя и считается другими частью Севера , наряду с польскими, но также и прусскими землями. Адам Мицкевич еще в 1840‐х годах помещает в своем курсе лекций в «Коллеж де Франс» на ментальном Севере весь славянский мир. Противоположное пространство представляет благодатный Юг, наследник античной цивилизации и Римской империи. Победа над Наполеоном празднуется в России как «торжество Севера» против «южных варваров». Офицерам Заграничных походов Российской императорской армии, будущим декабристам, нравится видеть в себе романтичных «суровых пришельцев хладного севера», этаких новых героев Оссиана, скифов, покоривших Афины.

1812 год говорит о «двунадесяти языках», объединившихся против России, но никто не называет их еще «силами Западной Европы», как в «Войне и мире» (1863–1869). Отставной поручик Толстой скорее воспроизводит терминологию войны, на которой он был сам и где впервые в сознании его участников России противостоял Запад : это Крымская, или, точнее, «Восточная война», как она тогда называлась. «Весь Запад пришел выказать свое отрицание России и преградить ей путь к будущему», негодует (по-французски, заметим) Федор Тютчев в письме своей Эрнестине (немке), завидя из Петергофа дымы англо-французской эскадры на рейде Кронштадта. Запад материализуется здесь как нельзя более символично: дыхание паровых машин невидимого за горизонтом Левиафана. И кстати – весьма похоже на инфернальные «черные корабли» («Курофунэ») коммодора Перри, вынудившие ровно в те же годы японцев открыться западному влиянию. Вообще любопытно, как русские метания в поисках цивилизационного брега где-то предвосхищали, а где-то шли параллельно с другими тектоническими столкновениями: читая, к примеру, о спорах «англицистов» и «ориенталистов» в Индии 1830‐х годов, при сохранении всех пропорций нам трудно не окрестить их мысленно местной разновидностью «западников» и «славянофилов».
Еще в предыдущем XVIII веке запад в русских текстах писался со строчной буквы, соотносясь с человеческой жизнью: «запад дней моих», жизнь «клонилась к западу». Эта линия продолжалась ассоциацией со Страшным судом, изображение которого по канонам Церкви размещается на соответствующей стене храма и имеет отчетливый душок серы: «запад есть место видимой тьмы; сатана же, будучи тьма, во тьме и державу имеет». Однако, по обычной схеме инверсии, перестановки смысла с ног на голову, Просвещение снимает с Запада груз конца: конца дня, конца жизни и конца света в обоих смыслах. И если средневековый центр мира в Иерусалиме был вне времени, как вне времени был изображенный на западе храма Страшный суд, то Запад становится центром именно благодаря тому, что теперь он центр времени, синоним истории и прогресса . С этой переменой переносится представление о «земле обетованной», куда следует стремиться паломникам, и облик этих самых паломников. Мы наблюдаем, как один из самых ревностных среди них, уже процитированный Владимир Печерин, будущий католический монах и миссионер на крайнем Западе, в Ирландии, сидит в заснеженной херсонской степи над атласом Европы: «Сердце на крыльях пламенного желания летело в эти блаженные страны» – «домой, на Запад»:
Запад, запад величавый!
Запад золотом горит:
Там венки виются славы!
Доблесть, правда там блестит.
На самом Западе понятие о принадлежности к этому пространству отличало образованный средний класс: темные и неимущие массы, хотя и пребывая географически на Западе, «западными людьми» в настоящем смысле не являлись. Равным образом и в России представление Запада – удел образованных «вестернизированных» элит дворянства, а затем интеллигенции. «Вера в Запад, – пишет философ и богослов Сергей Булгаков об Александре Герцене, – является вполне утопической и имеет все признаки религиозной веры… Запад является настоящим Zukunftsstaat ’ом (государством будущего. – Д. С. ) для русских».
Понятно, что, будучи символом веры, а не топонимом, Запад , как и Россия , не мог не стать и предметом отрицания и хуления. Тем более что семантическая инерция, символика конца и распада, продолжала окрашивать концепт Запада определенным эмоциональным светом. Противопоставление прогресса и «заката», начала и «конца истории» соблазняло и соблазняет разных «других» по отношению к Западу истолковать его в свою пользу. Так появляется «закат Abendland’ а» Освальда Шпенглера или наш «гнилой»/«загнивающий» Запад, подозрительно близкий такому же «гнилому интеллигенту». «Запад величавый» изгнанника Печерина мы встречаем уже в «Мечте» славянофила Алексея Хомякова (1835), но в прошедшем роде («А как прекрасен был…»). Ибо это «своего рода некролог европейской культуры» (А. А. Долинин), который логично заканчивается так: «Проснися, дремлющий Восток».
Читать дальше
![Денис Сдвижков Знайки и их друзья. Сравнительная история русской интеллигенции [litres] обложка книги](/books/431867/denis-sdvizhkov-znajki-i-ih-druzya-sravnitelnaya-i-cover.webp)

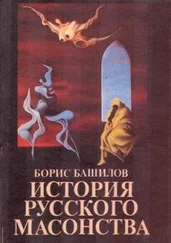


![Александр Бушков - Русский Шерлок Холмс [История русской полиции] [litres]](/books/386765/aleksandr-bushkov-russkij-sherlok-holms-istoriya-rus-thumb.webp)
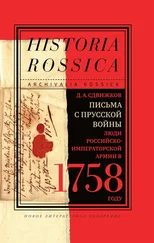

![Абрам Рейтблат - Классика, скандал, Булгарин… Статьи и материалы по социологии и истории русской литературы [litres]](/books/430777/abram-rejtblat-klassika-skandal-bulgarin-stati-thumb.webp)

