И тут нет ничего извечно женственногорусского. То же с поправкой века на полтора происходит, скажем, в далеком Китае: неэффективность местных знаний становится очевидной с военными поражениями в ходе Опиумных войн в середине XIX века. Дальше учреждается программа переводов в специальном центре – функциональном аналоге нашего Посольского приказа, основывается императорский университет по западному образцу, возникает местная интеллигенция, а затем революция, республика и коммунистическая власть. Или ближе, в Османской империи: после сокрушительных поражений в Причерноморье и Средиземноморье новая элита реформаторской эпохи Танзимата рекрутируется из государственного ведомства переводов и посольских канцелярий, из людей, знающих европейские языки.
Со второй половины XVII века канон московской образованности определяется латинским curriculum , заимствованным, первоначально в гомеопатических дозах, через посредничество православной Украины или напрямую из Польши от иезуитских коллегий. В результате окончательного оформления в 1569 году польско-литовской унии и активной политики в духе контрреформации Польша выступает в XVI–XVII веках как посредник западной культуры для московитов, что-то вроде Японии для Китая, если продолжать рискованные глобальные сравнения. Польша близко, иногда слишком близко, входит в соприкосновение с Московией, дойдя до Кремля, но не удержавшись в нем.
Надо видеть при этом циничный, но объективный факт, что всякий военный конфликт и в эту эпоху, и в последующие несет с собой не только столкновение, но и взаимодействие культур. Так, в параллель к нашим постоянным войнам с Польшей, тогдашнее «западничество» равносильно полонофильству. Польский, которому учат боярских и дворянских детей первые частные учителя с «близкого запада», предвосхищает культурную роль французского и играет при московском дворе XVII века наряду с латынью посредническую функцию в культурных контактах. «Латинствующие» литераторы с польско-украинским культурным багажом закладывают начало переосмыслению русского понятия « просвещение » в значении, которое оно приобретает в следующем XVIII веке.
Просвещение . Это слово имеет ключевое значение не только потому, что дало название эпохе. Перемены его смысла типологически важны для истории образованного человека. В допетровском языке под человеком «просвещенным» понимается праведный, святой, примеры чему во множестве встречаются в житиях: «Растущу же ему (Кириллу Белозерскому. – Д. С. ) во всяком благоговейнстве и чистоте и просвещенном разуме». В житийной литературе под просветителями славян Мефодием и Кириллом разумеются миссионеры, распространяющие с верой и книжное учение о ней.
Но свет меняется вместе со сценой. 1714 год. Петр I, поплевав на руки, спускает в новооснованном Петербурге на воду им же заложенный корабль «Шлиссельбург». И, быв в крайнем удовольствии, опершись на топор, глаголет к собравшимся тако: «Товарищи! (Да, именно таково начало записанной речи.) Думали ль вы… чаяли ль вы, что мы «увидим себя в толиком почитании?» Ведь и после принятия христианства «мы остались в прежней тьме», понеже «науки в отечество наше проникнуть воспрепятствованы нерадением наших предков». Лишь теперь «отверзлись им очи» и «науки преселятся и к нам». После чего «старые русские», как именует московских бояр описавший этот эпизод ганноверский посланник, выразили свое согласие (« Je-je prawda ») и «снова ухватились за то, что составляет высшее их благо, то есть за кубки с водкою». Так переопределен источник: свет, который в тебе, есть тьма. «Восемнадцатый век, – замечал Осип Мандельштам, – отвергнув источник света, им унаследованный, должен был разрешить заново для себя его проблему».
Во Франции, Англии и Германии проблема решалась тем, что термины, обозначавшие новую эпоху ( Lumières, Aufklärung, Enlightenment ), появились вместе с веком Просвещения, а средневековое illuminatio осталось только в языке Церкви и мистиков («иллюминаты»). У нас же (и в южной Европе, как в итальянском l’ illuminismo ) такого различия нет. В результате смыслы смешиваются и сталкиваются. Классический пример – диалог о просвещении и свободе между митрополитом Платоном (Левшиным) и императрицей Екатериной II, которая, выбирая наставника для наследника, будущего Павла I, полюбопытствовала у Платона, «„почему он избрал монашескую жизнь?“ [Платон] ответствовал, что по особой любви к просвещению. На сие Императрица: „Да разве нельзя в мирской жизни умножать просвещение?“ Льзя, ответствовал он, но не столь удобно, имея жену и детей, и разные мирския суеты, сколько в монашеской жизни, где он по всему свободен».
Читать дальше
![Денис Сдвижков Знайки и их друзья. Сравнительная история русской интеллигенции [litres] обложка книги](/books/431867/denis-sdvizhkov-znajki-i-ih-druzya-sravnitelnaya-i-cover.webp)
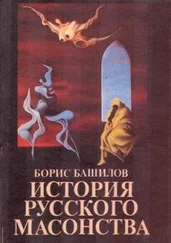


![Александр Бушков - Русский Шерлок Холмс [История русской полиции] [litres]](/books/386765/aleksandr-bushkov-russkij-sherlok-holms-istoriya-rus-thumb.webp)
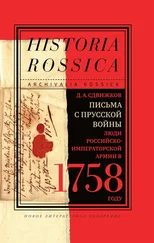

![Абрам Рейтблат - Классика, скандал, Булгарин… Статьи и материалы по социологии и истории русской литературы [litres]](/books/430777/abram-rejtblat-klassika-skandal-bulgarin-stati-thumb.webp)

