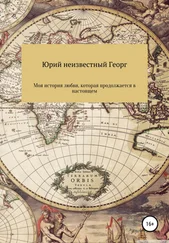Лидия Игоревна заметно волнуется: вертит в руках очки, то наденет их, то снова положит в футляр. Нам понятно ее нетерпение — из нашего предварительного телефонного разговора она знает о существовании документа «тех лет» и, конечно же, хочет поскорее взглянуть на него: а вдруг там есть хоть строчка о ее Володе, который навсегда остался в памяти молодым, тридцатилетним.
Лидия Игоревна бережно кладет на колени «Домовую книгу», медленно прочитывает фамилию и имя жильца, потом некоторое время молчит, что-то вспоминает и, наконец, восклицает:
— Как же, помню, Ананьев Анатолий Андреевич, зампредседателя Совнаркома. Мы почти одновременно въезжали. Они в семнадцатую квартиру, мы — в девятую… Не знали тогда ни Ананьевы, ни мы, что проживем в этих хоромах чуть больше месяца и что запишут наших мужей в одну «контрреволюционную, профашистскую организацию», одинаково жестоко будут избивать, а затем рядом посадят на скамью подсудимых.
Л. Миранович:
— За Володей пришли ночью, насмерть перепугали детей, даже грудная Верочка долго не могла успокоиться, все вздрагивала крохотным тельцем и глядела на меня огромными, немигающими глазами.
Не обращая ни на кого внимания, как будто в комнате пусто, гости в штатском медленно перебирали книги, заглядывали во все ящики столов, прощупывали каждую складку одежды. Ничего, конечно, не нашли, взяли документы и письма от родителей. Я догадывалась, зачем им нужны письма: ведь за несколько недель до ареста Володи забрали его отца и, по существу без следствия, без суда, обвинив в шпионаже, приговорили к смертной казни и через день расстреляли.
Старший кивнул Володе: «Собирайся, пойдем!». А я только глядела на всех безумными глазами, отказываясь верить в то, что происходило на моих глазах. Кажется, я даже не плакала, не кричала, за что изводила себя потом месяцы и годы, а только успокаивала, качая на руках не затихающую даже на время трехнедельную Верочку.
Энкаведисты встали рядом с Володей, показали жестом на дверь, но он вдруг резко повернулся, шагнул назад, к нам, поцеловал детей, меня, горячо заговорил: «Не волнуйся, Лида, все будет хорошо. Это ошибка, я чист перед партией…»
Когда резко хлопнула входная дверь, я осознала, наконец, что случилось: у детей нет больше отца, у меня мужа, но зато у всех у нас появилось страшное по своим последствиям клеймо — «семья врага народа». Как юрист и работник прокуратуры я знала, что стоит за этой фразой и какие изменения в нашей жизни она обещает. Ждать долго не пришлось — через несколько дней мне сообщили, что оставаться в прокуратуре я, естественно, не могу, а помочь с трудоустройством пока нет возможности. В 29 лет, с редким тогда высшим образованием, я стала безработной, имея на руках двоих детей, старшему из которых было семь лет.
На партийное собрание, где меня как жену врага народа должны были исключать из партии, пришлось взять Верочку. Я держала ее на руках, когда рядом со мной на пустом до этого ряду сели двое энкаведистов. Молча и, казалось, безучастно слушали они гневные речи моих недавних товарищей по партии и по работе. И только один раз дружно усмехнулись, когда наш признанный активист и правдолюбец, пронзая меня разящими взглядами, гневно заявил: «Она не могла не знать о враждебной деятельности своего мужа, потому что спала с ним на одной подушке».
Я была уверена, что мои добровольные телохранители по окончании сходки нежно возьмут меня под руки и препроводят «куда следует». Но, видимо, что-то дрогнуло в их казенных душах, не осмелились арестовать тут же, да еще с грудным ребенком.
Через несколько дней, когда мы уже перебрались в другую, совсем не привилегированную полуподвальную квартиру, мне вернули какие-то документы, кажется, свидетельство о браке, метрики детей и самое главное — сберегательную книжку, где у нас было накоплено сотни три, не меньше. Деньги небольшие, но на них можно было продержаться какое-то время, купить продукты для передач Володе. Иногда с детьми, иногда одна, оставив меньшенькую соседке, я часами выстаивала в очередях, но когда сдавала передачу, мчалась домой радостная, почти счастливая, как будто увидела его, поговорила.
Я понимала, если приняли передачу, значит, жив, значит, есть надежда. После расстрелов ни писем, ни передач не брали. Это я знала определенно.
И вот однажды мне отказали. Я металась от одного окошка к другому, умоляла сказать правду, пусть самую страшную, и всюду натыкалась на холодный, безучастный взгляд: «Потапейко не значится…»
Читать дальше