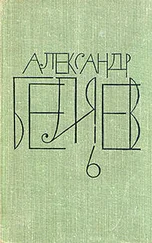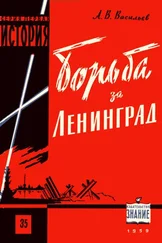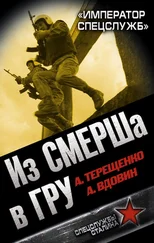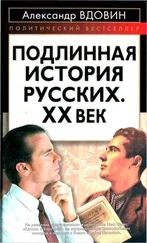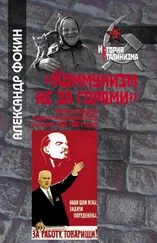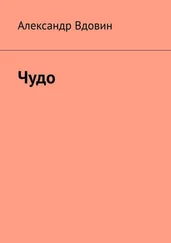На ещё одну причину подозрительности Сталина в отношении “ленинградцев” указывается в мемуарах А. И. Микояна. По его словам, “ленинградцы” были якобы “недовольны засильем кавказцев в руководстве страны и ждали естественного ухода из жизни Сталина, чтобы изменить это положение, а пока хотели перевести Правительство РСФСР в Ленинград, чтобы оторвать его от московского руководства” 26. П. С. Попкову припоминали, что он в разговорах со “встречными и поперечными” “агитировал” за создание, по образцу других союзных республик, Компартии России со штаб-квартирой в Ленинграде, за перевод туда правительства РСФСР. О Вознесенском говорили как о будущем председателе Совета Министров РСФСР, о Кузнецове — как о первом секретаре ЦК КП РСФСР, о Жданове — как о генеральном секретаре. У обвиняемых были и другие прегрешения, но главные — “и “кавказцы”, и желание отдалить руководство России от руководства СССР — были рассчитаны на Сталина: он охотно клевал на такие вещи” 27. И тут он легко поддался внушению: “Если из его рук уходит российская партия и российская государственность, то он остаётся генералом без армии”. Как написал о Сталине С. Ю. Рыбас, после войны “он испугался того, что во время войны пестовал как непобедимую силу, — русского национализма” 28. Иными словами, Жданов и “ленинградцы” шли национал-большевистским путём несколько дальше, чем это было приемлемо для Сталина. Так или иначе, но он не дал своей санкции на рассылку письма Маленкова и Берии от октября 1949 года, однако карательную машину против “ленинградцев” не остановил.
В конце сентября 1950 года обвиняемые предстали перед судом. Средства массовой информации о нём ничего не сообщали, чтобы не давать повода для слухов о расколе в руководстве страны. После расстрелов 26 главных обвиняемых (1 октября 1950 года) последовала “чистка”, закончившаяся увольнением с работы и осуждением 69 руководителей, обязанных своим выдвижением ленинградской партийной организации, и 145 их близких и дальних родственников. Из 214 осуждённых 36 работали в Ленинградском обкоме и горкоме партии, в областном и городском исполкомах, 11 занимали руководящие посты в других обкомах партии и облисполкомах, 9 — в райкомах и райисполкомах Ленинградской области.
Проигрыш “ленинградцев” обусловлен отнюдь не тем, что их противники оказались более искусными в интригах и аппаратных комбинациях. В более широком плане он означал поражение направления в руководстве страной, ориентированного на первоочередное решение внутренних политических, экономических и гражданских проблем — смещение приоритетов хозяйственного развития в сторону группы “Б”, решение проблем политического образования и культуры, подготовку новых Конституции и Программы партии. Одновременно это было победой направления, связанного с руководством военно-промышленным комплексом и делавшего ставку на его всемерное развитие как главного инструмента в сражениях на фронтах холодной войны и, в конечном счёте, на достижение мирового господства под флагами социализма и коммунизма.
В. Д. Кузнечевский, автор новейших исследований о “Ленинградском деле” и “русском вопросе”, отвечая на вопрос, за что же пострадали Кузнецов, Вознесенский, Попков и другие руководители Ленинграда, полагает, что все они были искренне преданы советской власти, однако вместе с тем считали, что интересы русского населения в СССР учитываются недостаточно. Возможно, после провозглашённой Сталиным здравицы в честь русского народа они ошибочно решили, что реализация русских национальных интересов совместима с общепартийной политической линией. По версии Кузнечевского, русский партикуляризм ленинградцев в наибольшей степени проявился в идеях экономических преобразований, которые они успешно продвигали в послевоенный период, в частности, призывали более активно перенаправлять ресурсы в социально-экономическую сферу. Именно в этом заключалось ключевое идейное противоречие с московскими конкурентами (Маленков, Берия), полагавшими, что наращивание оборонного потенциала страны должно быть приоритетным направлением экономического развития. Кузнечевский убеждён, что проекты, которые ленинградцы стремились воплотить в жизнь, были наивной попыткой укрепить позиции титульной нации в контексте многонационального Союза. Эти инициативы, в сущности, полностью соответствовавшие реализуемой партийной линии, тем не менее, встревожили Сталина, который усмотрел в них стремление к административной автономии и этническому самоопределению. Основная же причина репрессий усматривается в страхе Сталина перед пробуждением русского национального самосознания в партийной элите как угрозе своей безраздельной власти в СССР 29.
Читать дальше