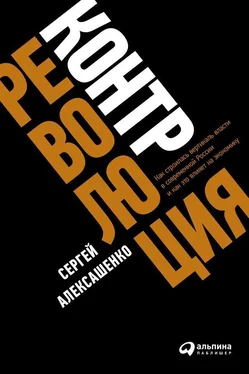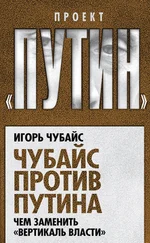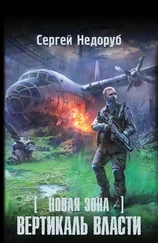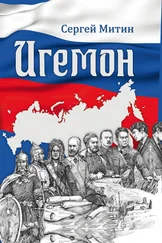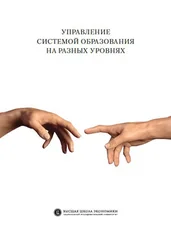Отвлекающие маневры
Конечно, нельзя говорить, что к моменту прихода Владимира Путина к власти российская судебная система прекрасно функционировала, а в стране царило верховенство права. Нет, ситуация была далека от идеальной, и надежды авторов Концепции 1991 г. на то, что «стоит обеспечить институциональную самостоятельность судебной власти, превратить судейское сообщество в самоуправляемую систему, как “лягушка” превратится в прекрасную царевну», не оправдались. Российские судьи, получив в обществе новый статус, подкрепленный зафиксированными в законе гарантиями, «оказались подвержены тем же соблазнам, которым оказалось подвержено все российское постсоветское общество» [196] Горбуз А. К., Краснов М. А., Мишина Е. А., Сатаров Г. А. Трансформация российской судебной власти. Опыт комплексного анализа. – М.; СПб.: Норма, 2010. – С. 57.
. Безусловно, одной из наиболее серьезных проблем того времени стала коррумпированность судей, и борьба с коррупцией в судах была объявлена негласной целью судебной реформы 2001 г. А инструментом этой борьбы было решено сделать контроль над судьями со стороны президентской власти.
Подготовка судебной реформы была поручена заместителю руководителя администрации президента Дмитрию Козаку, который не только не стал привлекать к своей работе ни представителей судейского сообщества, ни серьезных научных специалистов, но и всячески скрывал от общественности обсуждавшиеся идеи и концептуальные подходы. Хотя подготовка реформы уже шла полным ходом, в ноябре 2000 г., выступая на съезде судей, президент Путин говорил: «…Самостоятельная судебная власть в России… все-таки состоялась. ‹…› В базовых параметрах концепция судебной реформы реализована. ‹…› Я согласен… необходимо ускорение судебной реформы. Более того, мы должны наконец ее завершить. Но только в тех параметрах, в которых она была изложена ранее. Думаю, неправильно говорить о том, что мы должны сейчас… начать снова коренную перестройку» [197] http://www.ssrf.ru/page/845/detail/ .
, [198] В этом же выступлении Путин использовал один из своих любимых приемов конвертации оппонентов в сторонников: он объявил о повышении зарплат судей на 20 %, рассчитывая получить взамен их лояльность. В будущем Путин будет не менее щедрым на «подарки» судьям. На следующем судейском съезде, в декабре 2004 г., когда бюджетная ситуация заметно улучшилась благодаря росту нефтяных цен, он сказал: «…Хочу только сказать, что оно [повышение денежного содержания судей] будет существенным. Существенным – это значит, что на первом этапе – в два, может быть, в три раза; а в ближайшем будущем увеличение еще на столько же» ( http://www.ssrf.ru/page/846/detail/ ). Тогда же, в декабре 2004 г., накануне внесения на рассмотрение Конституционного суда вопроса о соответствии Основному Закону отказа от избираемости руководителей российских регионов Путин подпишет указ о выплате ежемесячного денежного поощрения председателю Конституционного суда в размере 6,5 должностного оклада, а судьям – 5,5 оклада.
.
Однако вскоре стало понятно, что дела обстояли прямо противоположным образом и что Кремль задумал решительное наступление на и без того не очень устойчивую независимость российского суда. Выдвинутый группой Дмитрия Козака лозунг «Реформировать правосудие через главную его фигуру – судью» был настолько привлекателен сам по себе и так хорошо разрекламирован, что даже многие представители судейского корпуса далеко не сразу распознали негодность избранных средств [199] http://www.strana-oz.ru/2003/2/ne-v-sudyah-sut .
. Тем более что красивых и правильных слов было сказано предостаточно. Рассказывая о замыслах, Козак говорил: «…Суд, как и другие ветви власти, должен стать гарантом политических, экономических, социальных прав и свобод граждан, инструментом обеспечения равенства всех перед законом… Очень важно сохранить независимость судей от других ветвей власти… [предлагается] установить в законе четкий и понятный перечень оснований, по которым полномочия судьи могут быть прекращены досрочно… чтобы… защитить судью от произвола» [200] https://www.kommersant.ru/doc/170526 .
.
Однако одновременно с этим прозвучали слова, которые не могли не настораживать и которые отчетливо показывали, что Кремль не рассматривал суд в качестве института поиска справедливого решения: «…Суды и правоохранительные органы являются главными звеньями механизма государственного принуждения… этот механизм – карающая рука государства – обеспечивает защиту большинства граждан» – и что реформа предусматривала существенное ограничение независимости судей: «…[предлагается] снять существующий полный запрет на оперативно-розыскную деятельность [201] Термин «оперативно-розыскная деятельность», будучи достаточно четко описанным в законодательстве, в российской практике часто используется для формирования искаженной картины мира. Сотрудники спецслужб, предоставляя информацию о конкретных лицах (будь то информация президенту страны при рассмотрении вопроса о назначении судьи или защита предлагаемой меры пресечения подозреваемому при рассмотрении дела в суде), часто маскируют свои домыслы (или намеренное желание исказить действительность) словами «по оперативной информации».
в отношении судьи и запрет на возбуждение уголовного дела и осуществление следственных действий в отношении судьи без согласия квалификационной коллегии судей» [202] http://kommersant.ru/doc/170526 .
. Впрочем, эта угроза была видна далеко не всем. Так, лидер фракции СПС в Думе Борис Немцов активно поддержал предлагавшуюся реформу и говорил, что ее проведению «будет достаточно жесткое сопротивление со стороны бюрократии [видимо, судейской]», а для ее успеха президенту необходимо проявить политическую волю [203] http://vremya.ru/2001/53/4/8026.html .
.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу