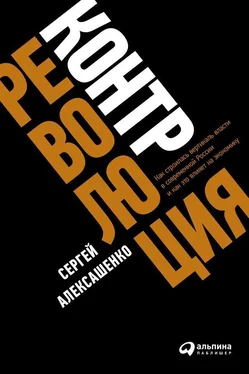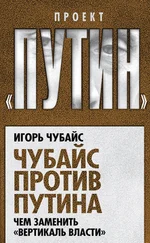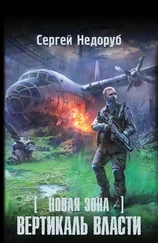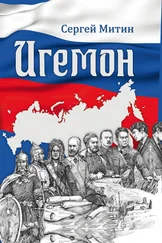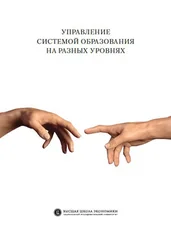Но на этом альянс государственного банка и одного из ближайших друзей президента Путина не закончился. Их взгляд упал на активы государственной компании «Ростелеком» (поглотившей к тому времени «Связьинвест»), которая обладала лицензиями на оказание услуг связи в 71 российском регионе [481] «Ростелеком» является одним из примеров неэффективности государственного бизнеса – обладая таким большим количеством лицензий на работу, компания смогла создать действующие бизнесы менее чем в половине, всего в 31, регионов ( http://telecom.cnews.ru/news/top/novyj_federalnyj_sotovyj_operator ).
(у Tele2 к этому моменту была всего 41 лицензия). В начале февраля 2014 г. прошла скрытая приватизация: Tele2 подписала соглашение с «Ростелекомом» о создании совместной компании, куда государственный холдинг внес все свои лицензии и компании сотовой связи, получив взамен 45 % акций нового предприятия. 55 % остались в руках госбанка и доброго знакомого российского президента [482] http://www.vestifinance.ru/articles/39088 .
.
Вслед за этим Tele2 получила не только разрешение на работу в Московском регионе, но и льготный кредит от российского правительства по Программе поддержки инвестиционных проектов для финансирования инвестиций по построению необходимой инфраструктуры [483] https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/01/28/tele2-vojdet-v-moskvu-v-kredit
. Эта программа была предназначена для финансирования проектов «в секторе экономики, являющемся приоритетным для развития экономики России в соответствии с Основными направлениями деятельности правительства РФ на период до 2018 г.». Формально выход Tele2 в Московский регион был привязан к двум пунктам: «Развитие конкуренции» и «Развитие связи и информационных технологий» (для снятия инфраструктурных ограничений), – хотя конкуренция на рынке сотовой связи Москвы была достаточно высокой и никаких инфраструктурных ограничений ни операторы мобильной связи, ни их абоненты не испытывали [484] Tele2 стала единственной компанией мобильной связи, которой удалось получить такой кредит. Правительство отказало в подобной поддержке не только частной компании МТС, но и государственному «Ростелекому» ( https://vc.ru/n/no-credit-april15 ).
.
Право сильного
В Советском Союзе права собственности на производственные активы не существовало в принципе. Согласно советской Конституции в стране были три формы собственности:
● личная собственность граждан;
● колхозно-кооперативная, которая охватывала часть сельскохозяйственных предприятий, часть мелкой промышленности и торговли и небольшую часть городского жилья;
● общенародная собственность, к которой относилось все остальное и которая юридически не была закреплена ни за кем, даже за государством.
В самом конце существования СССР ситуация начала меняться, и постепенно стали оформляться права собственности на различные предприятия. Хотя российские законы зачастую предоставляли широкие права трудовым коллективам в выборе форм приватизации и собственниками многих предприятий становились их работники, государство в начале 1990-х гг. не хотело приватизировать нефтяные компании, оставляя их в своей собственности. Основные нефтяные месторождения находились в Западной Сибири, и созданные на их основе нефтяные компании были приватизированы в середине 1990-х гг. Вместе с тем нефтяные месторождения, которые начали разрабатывать раньше других, находились в Волго-Уральском регионе, в основном в двух национальных республиках – Татарии и Башкирии. На основе этих месторождений были созданы две государственные нефтяные компании, «Татнефть» и «Башнефть», которые были преобразованы в акционерные общества соответственно в январе 1994 г. и в январе 1995 г. При этом собственником 40 % акций «Татнефти» стало правительство Татарии (41 % акций достался трудовому коллективу). В «Башнефти» доля правительства Башкирии составила около 63,5 %, а трудовому коллективу досталось около четверти акций. Федеральный центр согласился с переходом прав собственности на эти две нефтяные компании в пользу региональных властей – это стало одной из составных частей широкого комплекса договоренностей с этими республиками, на которые пошел Борис Ельцин в начале 1990-х для остановки процесса дезинтеграции Советского Союза.
В конце 2003 г. в Башкирии должны были состояться очередные выборы президента республики. Действующий президент Муртаза Рахимов, находившийся в этом кресле уже 13 лет, весной захотел получить от президента Владимира Путина поддержку, чтобы не допустить к выборам сильных конкурентов, однако эта затея не удалась. Вскоре все акции «Башнефти» и некоторые другие активы, принадлежавшие правительству Башкирии, после ряда сделок оказались в собственности компании, которой владел сын президента Рахимова (он же до этого времени руководил деятельностью «Башнефти»). Вполне вероятно, президент Рахимов выбрал такую форму защиты, которая в корпоративном мире называется «отравленная пилюля» [485] Нефтехимические предприятия в Башкирии были основными налогоплательщиками и крупнейшими плательщиками дивидендов в республиканский бюджет.
, поскольку она гарантировала ему сохранение влияния в республике в случае поражения на выборах. Но может быть, это было сделано его сыном без ведома отца, занятого политической борьбой [486] В пользу первой версии говорит то, что после того, как о такой приватизации узнала Счетная палата, проводившая проверку в Башкирии, республиканские власти не подали в суды ни одного иска с оспариванием приватизационных сделок. В пользу второй версии говорит то, что президент Рахимов длительное время после этого не общался со своим сыном.
.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу