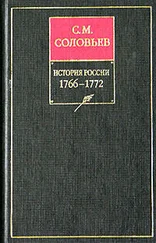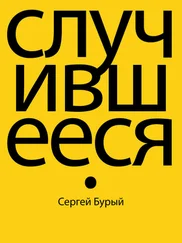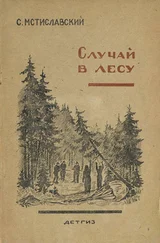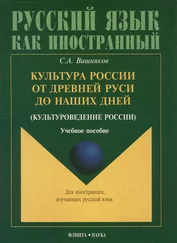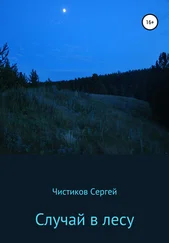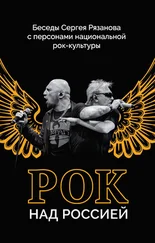Он требовал, чтобы советская власть обеспечила возможность, во-первых, каждой кухарке (и, разумеется, каждому рабочему мужчине), получить образование, достаточное как минимум, для управления государством. Почти при каждом вузе были открыты сначала курсы, а позже рабфак (рабочие факультеты), окончив который можно было поступить в вуз. Обучение же и в вузах, и в рабфаках год за годом все более насыщалось политическими знаниями.
А во-вторых, чтобы и ту кухарку, которая не поступит на рабфак, а останется варить щи в запроектированных на будущее гигантских фабриках-кухнях, большевики обучили грамоте в кружках «ликбеза» и «политграмоте» в рабочих клубах, открывшихся при каждом солидном предприятии. Формы клубной работы были весьма разнообразны: кроме «ликбеза» - громкие читки с обсуждением газет, выпуск своих, стенных газет, оформление плакатов и лозунгов, насквозь политизированная художественная самодеятельность, кружки по всем родам искусств, карнавалы и диспуты на антирелигиозные темы, полит-бои с лидерами империализма (Вильсоном, Черчиллем, Пуанкаре), полит-суды над литературными героями (Евгениям Онегиным, Родионом Раскольниковым и др.); а также демонстрации, воскресники, субботники, массовые выезды на сезонные сельскохозяйственные работы в порядке «смычки города с деревней», шефская помощь и всевозможные связи между предприятиями, стройками, воинскими частями и т.п.
Вооруженная обрывками политических знаний, кухарка (так же, разумеется, как и ее муж - рабочий) принимала активное участие во всевозможных заседаниях (обычно - открытых) фабзавкомов, парткомов квартальных и др. комитетов, разнообразнейших общественных комиссиях, митингах, собраниях, сходах, открытых судебных процессах, контрольных мероприятиях системы рабоче-крестьянской инспекции, чистках партии и государственного аппарата. Во всех этих выбранных рабочими, органах власти обсуждение рассматриваемых вопросов велось, конечно без всякой подготовки, без всяких ограничений ни по форме, ни по содержанию (от многоэтажного матросского мата до пения революционных песен, от цены трамвайного билета до мировой революции); предварительная подготовка речей и выступлений, всякая возможность цензуры была исключена.
Тем самым каждая кухарка, участвуя в митингах, решения которых определяли направление политической жизни страны, реально участвовала в управлении ею. Митингующие народные массы в те годы вполне весомо вмешивались в управление - порою не в лучшую сторону, но вмешивались.
И вот рабочие прямо от станка, избранные депутатами советов, членами исполкомов, оказались вынуждены повседневно управлять всею страною. Сознавая свою малограмотность, рабочие охотно включали в число избранных ими депутатов партийных руководителей - большевиков, на данных заводах не работавших, а советы именно их избирали председателями исполкомов (Отсюда уже недалеко и до назначения руководителей свыше, превращение их выборов в фикцию. Но это пока еще впереди). Но большевиков было мало, а лихорадочная жизнь военного времени ежедневно требовала от советов и их исполкомов срочного решения бесчисленных военных, политических и хозяйственных задач. И исполкомы их решали, делая на каждом шагу ошибки за ошибками, порою чрезвычайно тяжелые по своим последствиям (такие, например, как расстрел царской семьи). Но никто не мог указать большевикам более легкого и безболезненного пути - такого пути мы и сейчас не знаем.
Теперь надо разобраться с крестьянством. В деревню советская власть пришла одновременно с аграрной реформой, осуществленной, в основном, в форме захвата крестьянами помещичьих земель и имений. За предоставленную им возможность захватить землю крестьяне были готовы простить большевикам многое - и безвозмездное, в сущности, изъятие советской властью хлебных «излишков», и запрет на торговлю хлебом, и затянувшуюся войну, оторвавшую мужиков от полей на фронт, и неохотный допуск крестьянства к участию в государственном управлении...
Рабочие же, осуществляя свою власть, вынуждены были постоянно помнить, что Россия - страна крестьянская, что именно крестьяне составляют подавляющее большинство ее народа, и опасаться: как бы и вправду не «подавили». Рабочие вынуждены были смириться с тем, что система продразверстки обеспечивала их хлебом совершенно недостаточно – рабочие в городах в самые трудные годы гражданской войны потребляли 7 пудов хлеба на душу населения в год, а крестьяне в «производящих» хлебных губерниях, несмотря на продразверстку, потребляли в год до 17 пудов.
Читать дальше