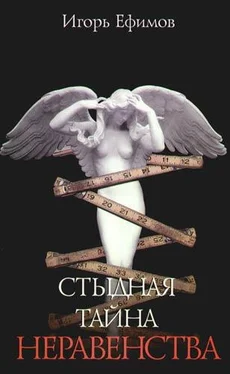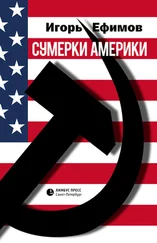Но как же определить это "порождение"? По каким признакам можно узнать в младенце, золотой он, серебряный, медный или железый? На это Платон не отвечает. Зато он ясно видит, что внедрение его теорий должно привести к уничтожению семьи. И не останавливается перед этим: "Все эти женщины [в касте золотых] должны быть общими всем мужчинам [своего разряда]; ни одна не должна жить частно ни с одним; также общими должны быть и дети, чтобы и дитя не знало своего родителя и родитель дитяти… Взяв детей от золотых стражи будут относить их в огороженное место, к кормилицам, живущим отдельно… и употреблять всё искусство, чтобы ни одна из матерей не узнала своего дитяти".2
Легко заметить, однако, что решение, предлагаемое Платоном, не снимает проблемы. Он хочет учредить четыре касты — но закрывает глаза на то, что врождённое неравенство будет ощущаться людьми и внутри каждой касты, будет так же порождать ревность, соперничество, зависть, ненависть, раздор, как оно порождало их, допустим, три века спустя в Римском обществе, расслоившемся как раз на четыре касты: рабов, свободных, всадников, сенаторов.
В отличие от уравнителей, состязатели, как правило, не сочиняют модели идеальных государств. Они описывают те, что известны истории, и сравнивают их между собой, используя шкалу "лучше — хуже". Ученик Платона, АРИСТОТЕЛЬ, так же хорошо знал о феномене врождённого неравенства людей. И в своей книге "Политика" он предложил кратчайшую формулу-рекомендацию, не утратившую своей заманчивой ясности и в наши дни:
"Кто может мыслить и предусматривать, тот естественно властитель и господин; а кто только своим телесным трудом в состоянии осуществлять его мысль на деле, тот стоит к нему в подчинённом положении".3
При этом Аристотель отнюдь не обольщался и знал, что в реальной жизни, сплошь и рядом, в повелевающие попадут люди, способные видеть только кратчайшие пути утоления собственных страстей. Ревность и зависть, порождаемые врождённым неравенством, он считал главным источником смут и мятежей. "Одни, стремясь к равенству, возмущаются, когда думают, что несмотря на своё равенство с людьми, которые изобилуют во всём, они имеют меньше их; другие, желая неравенства и превосходства, возмущаются тогда, когда замечают, что, при неравенстве своём с другими, они не имеют сравнительно с ними больших прав, но лишь равные или даже ещё меньшие".4
Уверенность философа в наличии врождённого неравенства также многократно проявляется в употребляемых им эпитетах. "Меры, способствующие возможно продолжительному сохранению тирании: угнетение людей, возвышающихся над общим уровнем; вытеснение людей мыслящих;…запрещение всех тех обществ, в которых может быть обмен мыслей".5
Теперь перенесёмся на много веков вперёд и откроем знаменитую книгу, описывающую идеальное государственное устройство.
В стране упразднена частная собственность.
Все обязаны трудиться.
Носят одинаковую одежду.
Едят за общими столами.
За частные разговоры о политике — смертная казнь.
На каждую поездку даже из города в город нужно испрашивать разрешение.
Все шпионят за всеми и доносят начальству.
Вся жизнь человека расписана, и за малейшее отступление от правил — обращение в рабство.
Искусство влачит жалкое существование или отменено совсем.
Что это?
Сталинская Россия? Гитлеровская Германия? Маоистский Китай? Кастровская Куба?
Нет, это знаменитая Утопия — идеальное государство, придуманное возвышенным мыслителем, ТОМАСОМ МОРОМ — героем, святым. Мечта, увлекавшая тысячи его современников, манившая многих и многих в последующие века.
Единственное неравенство, которое не отменено в Утопии, — неравенство по возрасту. Ну, и конечно, неравенство между мужчиной и женщиной. В семье все подчиняются старшему мужчине. Тридцать семей избирают руководителя — сифогранта. Над каждыми десятью сифогрантами — транибор. 200 сифогрантов избирают князя, и это пожизненный пост.6
Но по каким признакам выбирают руководителей? Ведь неравенству способностей ни в чём не дано проявляться? Неясно.
И как люди обсуждают кандидатуры, если "за попытки обсуждать государственные дела вне государственных советов полагается смертная казнь"?7 Опять неясно.
Лишь в одном месте невнятно говорится, что "некоторые люди в городах, проявившие с детства необычайные способности к учению, освобождены от физической работы и могут целиком посвятить себя наукам".8 Но образуют ли они отдельную касту учёных, отличающуюся по своему положению от других, или остаются растворёнными в общей массе — не уточняется.
Читать дальше