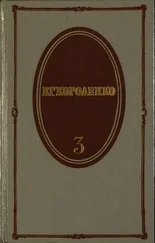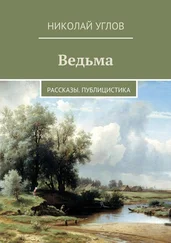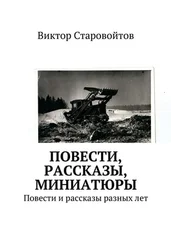В один из маминых приездов в Петроград ее разыскала Ниночка Гаген—Торн. Мама знала ее еще ребенком, когда училась у ее отца, Ивана Эдуардовича, профессора Медико–хирургической академии. Вместе они посетили академика Ольминского, старого маминого знакомого. Вскоре после организации «Маньчжурского братства» Сергей Федорович был представлен маме Николаем Николаевичем Врангелем, другом и коллегой академика по Эрмитажному музею. Мама знала Ольминского человеком чрезвычайно энергичным и жизнерадостным. Сейчас его будто подменили: он удручен, взволнован, потрясен чем–то. И очень ждал маму. Он коротко сообщил о продолжающемся вот уже десять лет разграблении властями эрмитажных коллекций. О превентивных арестах чудом прежде не забранных работников музея, озабоченных противозаконными изъятиями. Вскользь — об исчезновении своих близких и друзей. И неожиданно выкрикнул:
— Вы представляете, Фанни Иосифовна, освобождение моих родственников они ставят в зависимость от выдачи им «скрываемого работниками Эрмитажа местонахождения музейного серебра»! Мало того, они угрожают расстрелом этих людей, если я буду «тянуть и упираться»! Это же бандитизм!
— Кто угрожает вам, Сергей Федорович?
— Все, кто со мной говорит на эту тему.
— А конкретно?
— Зиновьев. Даже Луначарский, якобы возмущенный действиями своих партийных товарищей. И сам Калинин, тоже возмущаясь громко и сетуя на самоуправство местной власти… «Однако, входя в их положение из–за чрезвычайных трудностей момента…» Вот так, Фанни Иосифовна.
— Но я‑то? Чем могу вам помочь я? У меня с ними ни связей, ни даже отношений никаких… Не складываются наши с ними отношения. Отнюдь…
— Эрмитажу вам не помочь. Но я наслышан от очень надежной публики о ваших делах на Украине. И здесь, после кронштадтских событий 1921–го. Мне кажется, вам необходимо заняться более срочным делом, нежели спасение музейных ценностей. Вам следует спасать живых людей, Фанечка…
И рассказал маме о встречах Хаммер—Хургин—Красин. Подробности их разговоров известны ему из бесед с Бухариным, с которым у Сергея Федоровича складывались дружеские отношения. Хотя, как сказал маме Ольминский, он не исключал, что бухаринское возмущение сродни крокодиловым слезам Калинина и Луначарского, пытавшихся смягчить в его глазах не так факт распродажи раритетов российской культуры, как начавшуюся торговлю заложниками из дворян и интеллигентов. Временно приостановив расстрелы этих несчастных, их, как когда–то крепостных крестьян, выставляли списками на продажу зарубежным покупателям. И именно Лениным были представлены Хаммеру первые списки распродаваемых заложников и произведений искусств. Возмущенный Бехтерев громко и настойчиво потребовал остановить «работорговлю и грабежи». Сам Ольминский тогда не нашел в себе мужества присоединиться к Бехтереву.
Мама, человек дела, тотчас связалась с Диной Ноевной Заржевской—Барановой, подругой детства, с которой в 1904 году оказалась вместе в Маньчжурии, в Порт—Артуре, и в Японии. В 1915 году Дина вышла замуж за известного хирурга Исаака Савельевича Баранова, в годы войны работавшего у мамы. Когда первые скандалы начали трясти ПКК и угроза засвечивания его истинной деятельности стала реальной, главные «гуманитарии» Куличек и Рабинович срочно были отозваны обратно в аппарат ВЧК. С Пешковой остался Михаил Винавер. И она — во спасение собственного лица и «благотворительного» имиджа своей лавочки — бросилась «разбавлять» чекистский состав ПКК людьми с незапятнанной репутацией. Тогда она и пригласила возвратившуюся в Москву чету Барановых. И мама, теперь через Дину Ноевну, точно и всесторонне была осведомлена и о системе работорговли, и о введении практики расстрелов части заложников — изощренном шантаже поэтапного уничтожения наименее защищенных распродаваемых, с «намеком»: власти не шутят, и надо срочно добывать валюту для выкупа, а не пытаться «саботировать гуманитарные мероприятия» ПКК…
Задолго до встречи с Ольминским мама не раз возвращалась к кронштадтским событиям 1921 года, завершающие эпизоды которых были ей куда как памятны. Тогда, в середине марта, каратели начали теснить восставших моряков. И мама вместе со своими медиками организовала эвакуацию раненых из корабельных и крепостных лазаретов Котлина. Под прикрытием артиллерии форта Тотлебен, вместе с экипажами «Петропавловска» и «Севастополя» они ушли в Финляндию по льду залива. Финны по–доброму приняли беглецов, а Маннергейм сделал все, чтобы устроить жизнь моряков, многие из которых — участники русско–японской войны — были его «маньчжурскими братьями». Уложив раненых в больницы и госпитали, распрощавшись с коллегами, которые решили остаться в Финляндии, мама 27 марта известными ей путями вернулась домой. И сразу начала поиск возможностей помочь членам «братства», схваченным карателями–чекистами, — положение их было много серьезнее судьбы нынешних заложников: восставших моряков по приказу Троцкого убивали в Петрограде, топили под Архангельском — уничтожали!
Читать дальше