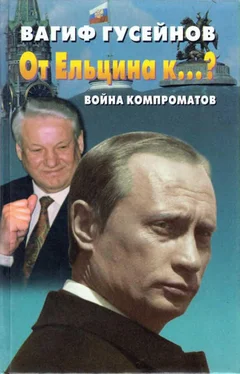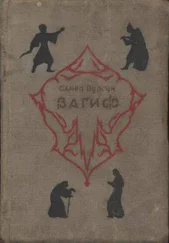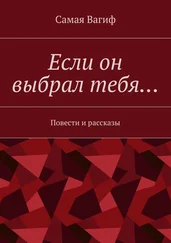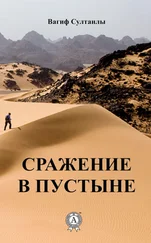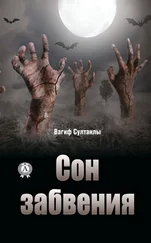Несмотря на раздававшиеся в России голоса в пользу того, чтобы «воздерживаться от чрезмерной реакции» на попытки США выйти из Договора по ПРО, именно эта проблема наиболее остро стояла в ближайшие месяцы, поскольку она не вписывалась в контекст обеспечения интересов национальной безопасности России. Реальные кандидаты на пост будущего главы Российского государства жестко выступали против односторонних шагов, подрывавших остатки стратегической стабильности. С учетом прогнозируемого состава Государственной думы можно было — в случае отхода Вашингтона от Договора по ПРО — ожидать серьезных негативных последствий для перспектив ратификации Договора СНВ-2 и последующих переговоров о более глубоких сокращениях стратегических вооружений.
Россию, прежде всего, заботили возможные долгосрочные последствия американского плана для ее ядерного арсенала. На первом этапе национальная американская система ПРО действительно имела ограниченный характер. Вместе с тем дорогостоящие новые РЛС и система командования и управления, которую США намеревались создать в следующем веке, стали бы основой для более всеобъемлющей системы ПРО.
Поскольку Россия не обладала финансовыми ресурсами, чтобы участвовать в такого рода гонке вооружений, ей оставалось либо смириться с ролью аутсайдера, либо пойти на единственный вынужденный шаг, с помощью которого она могла бы поддержать стратегический баланс с США, а именно отложить в сторону договоры, которые она подписала с Вашингтоном в прошлом, и наращивать свой арсенал за счет развертывания ракет наземного базирования с кассетными боеголовками, ЧТО ликвидировало бы одно из основных достижений в области контроля над вооружениями. России следовало бы активизировать консультации с Китаем о возможном политическом и военном сотрудничестве на случай, если США вышли бы из Договора по ПРО.
На уступки в этом вопросе ни в коем случае идти было нельзя.
Гипертрофированно выделялась проблема тотальной коррупции в России, которая действительно достигла угрожающих масштабов, но использовалась для развязывания широкомасштабной антироссийской кампании. В то же время были основания констатировать, что администрация Б. Клинтона долгое время смотрела на становившиеся известными ей факты коррупции в России сквозь пальцы по той причине, что в ней были замешаны политические фигуры, на которые в США делали ставку.
М. Олбрайт верно отмечала, что «груз коррупции сдерживает дальнейшее движение России» и «необходимо наконец поставить задачу борьбы с коррупцией в разряд приоритетов». С. Бергер подчеркивал, что «очень небольшое число российских бизнесменов благодаря сочетанию таких факторов, как политические связи, предприимчивость и использование системы, получили доступ к колоссальным суммам и колоссальному капиталу».
Американцы действительно предупреждали в разное время, что «успешная борьба с коррупцией в России должна начинаться с самого верха» (например, заместитель министра финансов Л. Саммерс в 1997 году). В 1999 году М. Олбрайт вновь указывала, что «проблема эта носит реальный характер», а С. Бергер говорил о том, что «мы не хотим видеть такую Россию, где экономические условия станут настолько тяжелыми, что россияне обратятся к националистическому лидеру того или иного толка».
Об этом же, по существу, говорят и республиканцы, та же К. Райс: «Я не думаю, что кто-нибудь считает всю Россию вовлеченной в уголовную деятельность… международная экономика требует, чтобы вовлеченное в скандал государство, так сказать, пролило свет на проблему, разобралось во всем и наказало тех, кто мог быть замешан в преступлениях. Часто задают вопрос, чьей победы на выборах в России в июне 2000 года вы бы хотели? Мой ответ таков: мне хотелось бы, чтобы русские нашли некоррумпированного, честного человека».
России следовало бы пойти по пути более тесного взаимодействия с США и другими западными странами в области борьбы с коррупцией и отмыванием незаконно нажитых капиталов, решительно опровергая тем самым вброшенный в политический обиход тезис о превращении России в «преступно-синдикалистское государство».
В США тем временем развернулась дискуссия о необходимости принятия «ограниченной доктрины гуманитарной интервенции», и проталкивание этой идеи в ходе работы 54-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. О целесообразности ее разработки с учетом опыта действия США и НАТО в отношении Югославии говорили как демократы, так и республиканцы, о чем свидетельствовали, в частности, статьи бывшего специального помощника президента США Дж. Буша Р. Хааса и бывшего советника Б. Клинтона М. Манделбаума в журнале «Форин афферс» (сентябрь — октябрь 1999 г.).
Читать дальше