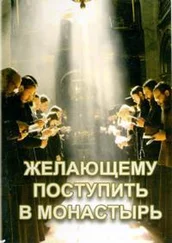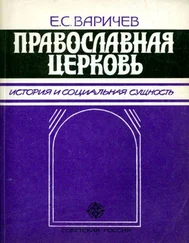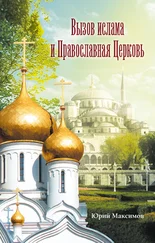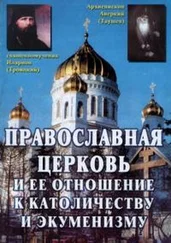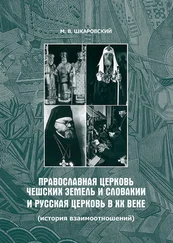Более развернуто это описано у Дж. Макдауэлла: Неоспоримые свидетельства, и отчасти у А. Юркова: (см.: Юрков А. Новозаветная география Палестины//ЖМП. 1991. № 11; 1992. № 2, 4), и у Санталы Ристо: Мессия в Новом Завете.
Макдауэлл Дж. Неоспоримые свидетельства. С. 35.
Журавский А. В. Иисус в Коране // Мир Библии. 1997. № 4. С. 91.
Например: «Что же касается Корана, то он до единого слова, до единой буквы остался в таком же виде, в каком был ниспослан Всевышним, в нем нет изменений ни в едином слове или огласовке» (Абу ал-Аала ал-Маудуди. Принципы ислама. С. 72). Столь категоричный и очевидный (само)обман объясняется тем, что в отличие от христианства в исламе текстуальность «последнего священного писания» является одним из основных догматов, по которому Коран существует вечно, его оригинал находится на седьмом небе, откуда он «в последние времена» был в точности ниспослан Мухаммеду, в точности записан, в точности составлен и ни один человек не имеет никакого отношения к его созданию. Таким образом, любое фактически подтвержденное изменение текста Корана (содержательность его при этом не играет роли) опровергает в одном из аспектов веру мусульман.
В христианстве же, где Писание мыслится как одна из ипостасей Священного Предания, идущего через апостолов от Самого Христа (см.: 1 Кор. 11, 2, 23), – Предания, которым жила Церковь до написания книг Нового Завета, на основании соответствия которому эти книги принимались Церковью и которым Церковь продолжает жить и по сей день, наличие текстуальных изменений в принципе никоим образом не умаляет веры. Разночтения были известны и в древности и своим существованием не производили никакого смущения. Те разночтения, которые соответствовали Преданию, имели авторитет, равный с самим Евангелием; те же не только разночтения, но и целые евангелия, которые не соответствовали этому Преданию, отвергались как апокрифические.
Богодухновенность Священного Писания в христианстве мыслится не как принадлежность каждой черты, каждого знака Богу, диктующему Свои откровения евангелисту, который выступает при этом лишь как пассивное орудие, но как сотрудничество, соработничество Святого Духа – Бога и человека, при котором не подавляются индивидуальные особенности личности пишущего и его творческая воля, но Божественным наитием вдохновляются, напитываются истиной и благословляются. Потому несущественные различия между Евангелиями, которые в них иногда встречаются, не опровергают, но, наоборот, только подтверждают истинность Благой Вести, свидетельствуя о том, что пишут живые, конкретные люди, являющиеся свидетелями тех событий, о которых повествуют, и обладающие самостоятельным взглядом на них.
Климович Л. И. Книга о Коране. М., 1986.
Успенский И. А. Богословие иконы Православной Церкви. М., 1994; Голубцов А. П. Из чтений по церковной археологии и литургике. В последнее время археологи склоняются к более поздней дате: начало III века, однако, если учесть, что все символы – восточного происхождения и проникали на запад постепенно, следует отнести сами иконографические типы в большинстве своем ко II веку.
Цит. по: Дидат Ахмед. Христос в исламе. Б.м., б.г. С. 27.
Кадри Абдул-Хамид. Догматы христианства. Новосибирск, 1995. С. 5.
При всем уважении к святому апостолу Павлу, его Послания в Церкви никогда не ставились выше Евангелий. Во II веке еретик-гностик Маркион попытался отвергнуть весь новозаветный канон, оставив в качестве священных книг лишь Послания апостола Павла и Деяния апостолов, за что был единодушно осужден всей Церковью.
Мусульмане (и другие антитринитарии) пытаются опровергнуть это, говоря, что самого слова «Троица» в Новом Завете нет. По их логике, этот факт непременно свидетельствует о том, что и самого понятия такого первые христиане не знали. Однако любой желающий может внимательно просмотреть современный текст христианского Символа веры – там он также не обнаружит слова «Троица». Означает ли это то, что современные христиане не знают во Едином Божестве Отца и Сына и Святого Духа? Мы поклоняемся не тем или иным словам и терминам, а той духовной истине, которая выражается посредством этих слов и терминов, при этом они существенны ровно настолько, насколько способны выражать эту истину. Мы отдаем себе отчет в том, что вечная реальность никогда не может быть полностью отражена каким бы то ни было словом человеческого языка, и поэтому несущественно, выражается ли православное понятие Бога словом «Троица» или каким-либо другим – главное, чтобы само понятие было неискаженным. Беспристрастное рассмотрение Священного Писания и памятников письменности раннехристианской Церкви убедительно показывает, что такого понятия Бога, как Единого Триличностного Существа, у первых христиан было. Что же касается терминов, то в Коране, например, нигде не сказано, что Мухаммед есть последний пророк, тогда как это один из главных догматов современного ислама.
Читать дальше
![Юрий Максимов Вызов ислама и Православная церковь [litres] обложка книги](/books/407125/yurij-maksimov-vyzov-islama-i-pravoslavnaya-cerkov-cover.webp)