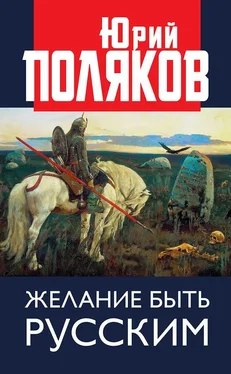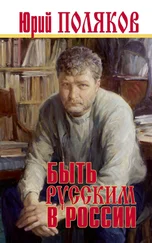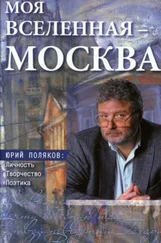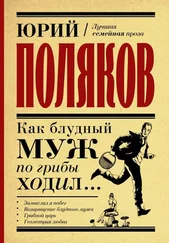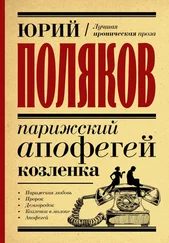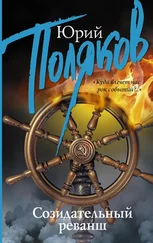Но в таком случае возникает жесткий и справедливый вопрос: «Зачем вы, мастера культуры?»
«Литературная газета», 2005 г.
Когда-то, во времена моего детства, отрочества, юности и даже зрелости, День Победы в самом деле был «праздником со слезами на глазах». Причем если выделять ключевое слово (как теперь модно), то, конечно же, это – «праздник». Правда, когда появилась знаменитая песня Владимира Харитонова, я слышал от некоторых фронтовиков ворчливое несогласие: мол, слезы-то тут при чем? Мы же победили, радоваться надо, а не плакать! Но большинство – воевавшие и не воевавшие – приняли и благодарно запечатлели в сердце эту поэтическую формулу, окрыленную замечательной мелодией Давида Тухманова. Но если мы сегодня попытаемся определить пресловутое «ключевое слово», то с удивлением обнаружим: теперь это – «слезы». Почему и что за этим стоит? Давайте разбираться…
Первоначальный образ войны в общественном сознании стал меняться давно, несколько десятилетий назад: победительно-агитационный пафос уходил на второй план, а на первый выступали страшные жертвы и лишения, которые были принесены нашим народом на алтарь Победы. В прозе и стихах литераторов-фронтовиков становилось все больше жестокой правды, прежде беспощадно вымарываемой военной цензурой, не выпускавшей в свет ничего, что может нанести вред замыслам командования и боевому духу личного состава. К осмыслению нравственного, исторического опыта войны подключилось и поколение людей не воевавших, наследников Великого Одоления. Конечно, часто «ужесточение» темы сталкивалось с ужесточением контроля. Известно, как трудно шел фильм Алексея Германа «Проверка на дорогах», как не сразу пробилась к читателям окопная проза Вячеслава Кондратьева, как тяжело возвращал в историю Иван Стаднюк генерала Павлова. Добавлю, что спустя тридцать лет после смерти Дмитрия Кедрина мы все еще не могли опубликовать в «Московском литераторе» его стихи о хлебных очередях в военной Москве.
А вот случай, произошедший со мной, типичный для той эпохи. В моем сборнике, готовившемся в 1980 году в издательстве «Современник», было стихотворение о командире, отказавшемся выполнять губительный приказ начальника и расстрелянном за это: «Тут справедливости не требуй: / Война не время рассуждать. / Не выполнить приказ нелепый / Страшнее, чем его отдать…»
Главлит не просто снял эти стихи – тираж книги был сокращен в три раза, а редактор, поэт Александр Волобуев, получил строгий выговор и от расстройства слег с сердечным приступом. Конечно, можно за это, как, например, режиссер Смирнов, которому помотали нервы с фильмом «Белорусский вокзал», возненавидеть Советскую власть заодно с местом своего рождения. Это, кстати, стало ныне просто каким-то заболеванием. Подобно тому, как иной охтинский хулиган, получавший в свое время по шее от городового, объявлял себя после Октябрьской революции участником штурма Зимнего или на худой конец жертвой режима, так сегодня множество писателей-лауреатов и режиссеров-делегатов оказались вдруг жертвами коммунистов и жестоковыйными диссидентами с партбилетами в карманах.
Но ведь на те же трудности, связанные с утверждением нового слова о войне, можно взглянуть и по-другому. Страшная угроза уничтожения потребовала выработки и внедрения в умы воюющих людей особенного, победно-жертвенного мировосприятия, ставшего, между прочим, таким же оружием, как «катюши» и «тридцатьчетверки». Но человек устроен так, что, выжив и сняв гимнастерку, он порой до конца жизни донашивает в душе психологию «передовой», которая оказывается сильнее более передовой идеологии мирного времени. Я вырос в заводском общежитии, где обитало, наверное, человек десять фронтовиков, и хорошо помню их «неформальные» рассказы о войне, которые почти один к одному совпадали с «формальными» рассказами, скажем, на пионерских сборах или комсомольских собраниях, куда их постоянно приглашали. Теперь это принято объяснять синдромом поколения, «напуганного Сталиным». Вряд ли все так просто! Ведь, например, Егор Гайдар не производит впечатления напуганного человека, а тем не менее по сей день продолжает упорно нести все тот же либеральный ликбез, хотя страна и мир за пятнадцать лет кардинально переменились.
Но в нашем случае консервация победно-жертвенного мировосприятия в общественном сознании объясняется еще поворотом мировой политики. Сейчас, наверное, только Познер и Сванидзе всерьез уверены, будто угроза, нависшая над СССР после Победы, всего лишь плод сталинских параноидальных глюков. Тот, кто мало-мальски интересуется историей, знает: наша страна в те годы, омраченные знаменитой фултонской речью, оказалась лицом к лицу с консолидированным и непримиримо настроенным к нам Западом, который, на полную катушку использовав наш «тоталитаризм» для разгрома Гитлера, вдруг прозрел и озаботился «коммунистической угрозой». А каким агрессивным, беспардонным и безнравственным может быть консолидированный Запад, чувствуя свою безнаказанность, мы сегодня, после известных событий в Югославии, Ираке да и в бывших советских республиках, прекрасно знаем.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу