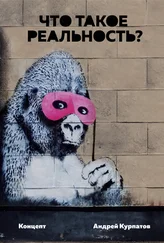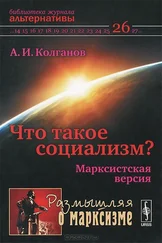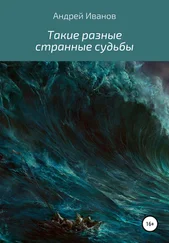Я предложил бы для этого приема особый глагол — “гитлерение” или “гитлерование”. Что-то вроде: “Либералы дружно загитлеровали. Особенно гитлерила дама с бородавкой на шее”.»
Думаю, особенности мышления интеллигенции теперь полностью понятны. Благодарю Сахаровский центр за любезно и вовремя предоставленные иллюстрации.
Следствием такого мышления является не только паранепротиворечивость, но и «моноидейность» мышления. А именно: интеллигент никогда не может осмыслить проблему в целом, представить всю систему событий и фактов. Его интересует лишь одна, Самая Правильная Идея. Скажем, одна часть интеллигентов будет яростно агитировать «против совка», с энтузиазмом клеймя позором все недостатки, которые были присущи советскому строю. Другая часть будет призывать к «назад, в СССР», превознося достижения того периода истории. Недаром Британская энциклопедия называет характерным словом русской интеллигенции «addiction to theory».
Интеллектуал же смотрит на этот цирк с удивлением: ведь очевидно же, что в любом периоде истории были и достижения, и провалы, из всей истории надо извлекать уроки: повторять на новом уровне то, что полезно, и не повторять ошибки.
Но у интеллигента в голове помещается лишь одна мысль. И, если это идея, она становится сверхценной. Скажем, есть множество интеллигентов, причисляющих себя к русским националистам. Их характерное свойство — это драка насмерть (правда, в текстовом виде) по поводу «чья идея самая правильная» вкупе с объявлением не-националистами всех, кто с их идеей не согласен. Добавлю, что идея при этом гипертрофируется.
Пример: «нация — первична, государство — вторично». Очень правильный тезис. Именно нации образовывали государства, целью государства должна быть служба нации и так далее. Тему, почему государство не должно быть главнее нации, я сам раскрывал в статье « Фашизм не пройдет!».
Но интеллигент этот тезис поймет сообразно своему особому типу мышления: «если нация первична, то ничто так не важно, как нация; а раз ничто не важно — то все остальное уничтожить». Вот и получаются такие «националисты», которые ратуют «за русскую нацию» и «против гнета государства» одновременно, призывая разрушать государственную власть как таковую. В особо тяжелых случаях встречаются призывы даже к отделению отдельных областей как «русских республик» — мол, как все от всех отделятся, тогда радостно объединятся в конфедерацию и будет всем счастье. Больше одной мысли не умещается — их не волнует то, что в случае такого раздробления Россию с удовольствием растащат по частям, а русская нация перестанет существовать как таковая — к жизни в клетушках она не приспособлена. Эту тему я буду разрабатывать отдельной статьей, а сейчас перейдем к другой особенности мышления.
Интеллигенты придают чрезмерную значимость словам, ярлыкам, умозрительным схемам, логическим построениям с неопределенной терминологией и т.д. Помните про сходство их мышления с первобытным? Это — еще одно подтверждение гипотезы: можно смело утверждать, что интеллигенты верят в силу слова в плане «как сказано, так оно и есть». Упрощенно: «если много говорить о чем-то, то мир таким и станет». Каких-либо осмысленных действий это не подразумевает. Интеллигент всегда пассивен, хотя при этом может очень активно и много говорить или писать.
Д.С. Лихачев в работе «о русской интеллигентности» честно писал: «Один из главных столпов интеллигентности — характер образованности. Для русской интеллигентности образованность была всегда чисто западного типа.»
Еще более откровенен Иван Солоневич в работе «Диктатура импотентов»: «Для того, чтобы хоть кое-как понять русское настоящее, нужно хоть кое-как знать русское прошлое. Мы, русская интеллигенция, этого прошлого не знали . Нас учили профессора. Профессора частью врали сознательно, частью врали бессознательно. Их общая цель повторяла тенденцию петровских реформ начала XVIII века: европеизацию России. При Петре философской базой этой европеизации служил Лейбниц, при Екатерине — Вольтер, в начале XIX века — Гегель, в середине — Шеллинг, в конце — Маркс. Образы, как видите, не были особенно постоянными. Политически же “европеизация” означала революцию. Русская интеллигенция вообще, а профессура в частности, работала на революцию. Если бы она хоть что-нибудь понимала и в России, и в революции, она на революцию работать бы не стала. Но она не понимала ничего: ее сознание было наполнено цитатами немецкой философии.»
Читать дальше