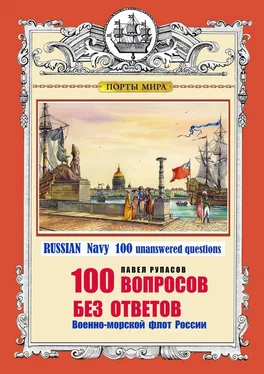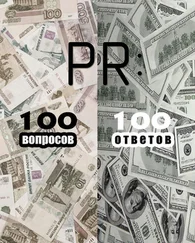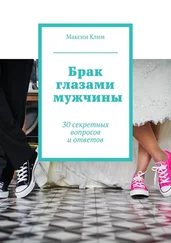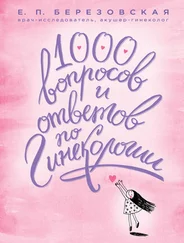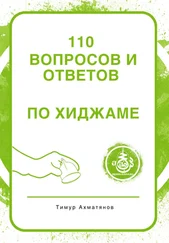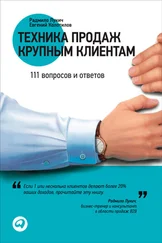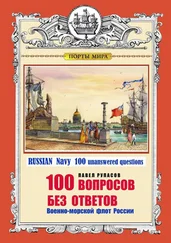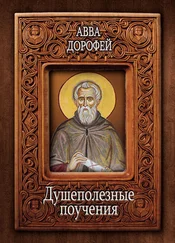Имеем возможность рассказать о редком случае: согласно переписке ЦВММ двухтысячных годов 20-го века с потомком адмирала петровских времен, проживающим в США, была достигнута обоюдная договоренность, что его предок будет выполнен с него, поскольку по сохранившимся устным описаниям он похож на своего пра-, пра-, пра-, — затрудняемся правильно перечислить «колена» прадеда. Один из художников-маринистов ЦВММ должен был с него писать портрет адмирала. Этим редким примером мы хотели показать, что при желании портретная галерея директоров и начальников может быть исполнена даже при отсутствии фотокарточки.
Вопрос: Руслан Шамсудинович, почему имена и отчества четверых директоров-начальников, руководивших модель-камерой и музеем, в списке руководителей, публикуемых в трудах музея, из года в год остаются безымянными? Это фамилии не корабельных подмастеров, это начальники музея, под их началом свершалась Великая история Великого музея, они «отцы и основатели» из 1743, 1825—1827 и 1951 годов. Они не заслужили внимания ЦВММ, что их имена остались неизвестными?
Смотритель модель-камеры Атрепьев (1743 г.), заведующие кабинетом редкостей по натуральной истории действительный статский советник Кудрявцев и надворный советник профессор Щеглов (1825—1827 гг.) тоже остаются безымянными. Даже начальник ЦВММ Петров (1951 г.) не удостоился того, чтобы его инициалы попали в Приложение №3 юбилейной «книги Ларионова» «История ЦВММ 1709—2019».
Понятно, что вся говорящая и пишущая братия, к которой напрямую относятся и авторы этой книги, по вульгарной армейской приговорке могут быть отнесены к выражению «рот закрыл — матчасть в исходную». В гражданско-цивильном переводе — «язык без костей». Но не будем обделять думающего читателя половинными выражениями. Язык нации — это единственное проявление когнитивной (мыслительной) функции мозга, язык выражает не только то, как мыслит каждый отдельный человек — это «суммарный уровень развития нации», и как в Писании «сначала было слово», так и в деятельности директора ЦВММ предполагается развитие и знание вопросов Морского музея и истории флота. Потому что следы, оставляемые Центральным военно-морским музеем России, не есть следы на песке или глиняных табличках. Пишущая братия нации своими научными, популярными либо художественными произведениями составляют для мирового сообщества «морскую часть» гигантской мозаичной картины на тему «Кто мы есть», проживающие в этой стране, поэтому вклад печатного слова так велик.
Евгений Николаевич Корчагин — второй по счету из трех выбранных «помощников» для написания нашей книги. Он «второй в игре», в условной линейке летописцев (С. Огородников), предшественников (Е. Корчагин), и нынешних строителей (Р. Нехай) истории музея. Время начальствования Евгения Корчагина над ЦВММ началось со знаменательного 1991 года (начало «демократии» в России) и закончилось в 2004-м.
Чем же был силен Корчагин? Временем, в котором ему пришлось руководить: он держал «штурвал музея» в переломные времена, разгул и расцвет демократии в стране, лихие девяностые, и еще он силен «переговорным процессом».
Время, в котором начальствовал в ЦВММ Корчагин, — время смены формаций и великого подъема, по крайней мере, подъема печатного слова. Не в смысле больших тиражей, а в смысле попыток много думать и размышлять над пройденными страной путями, планировать и мечтать о путях дальнейших. И пусть на улицы вылилось при этом много грязи и пены, но «бочку прорвало», и на этом подъеме Корчагину пришлось формулировать новые постсоветские смыслы существования ЦВММ как в доперестроечные времена, так и вглядываться в будущие.
И еще в одном нашел себя капитан 1-го ранга Евгений Николаевич Корчагин — он стал великим переговорщиком и дипломатом. Он установил связи и создал дружеские взаимоотношения музея с большим числом музеев и различных отечественных и зарубежных учреждений. Показал ЦВММ «в заграницах». За 13 лет своего правления вывозил музей по 1—2 раза в год в разные страны и города. Ренессанс был, наверное, связан с падением политического железного занавеса. Казалось, отныне будем дружить со всем миром, дружить вечно и счастливо… и «все нас хотели», и «наши нас» отпускали «в заграницы»… Корчагину в своей книге 2004 года издания (как оказалось позже — в его «лебединой песне») первому привелось описать и то, как «имперскую» музейную систему в стране сломали коммунисты. К 1914 году в имперской российской музейной системе военного флота при каждом соединении кораблей уже был малый музей, с подчинением всех таких музеев центральному Морскому музею в Санкт-Петербурге. И то, как на основаниях этой системы построили собственную аналогичную, но коммунистическую, и как долго это строительство длилось: пять раз коммунисты переподчиняли и переименовывали Морской музей, прежде чем он в 1924 году обрел свое предпоследнее, окончательно советское лицо и название — ЦВММ — и передан в подчинение исторического отдела оперативного управления штаба Рабоче-крестьянского красного флота (РККФ). Просуществовав до 1924 г. и отчасти до 1939 г. как историко-технический, он окончательно становится историко-идеологическим. Коммунистическая партия построила новый музей с новыми, народными смыслами. Музей стал показывать этапы борьбы рабоче-крестьянских классов за свое освобождение от угнетателей: участие флота и флотских экипажей, а в редких случаях и офицеров (например, Отто Юльевич Шмидт), в восстаниях против существующей власти и в революциях 1905 и 1917 гг. Так, шаг за шагом показывалась борьба порабощенных масс против поработителей показывалась в период Гражданской войны, и подвиг военных моряков в Великой Отечественной войне. Все это выражения из книги, изданной под общей редакцией Е. Н. Корчагина «Морской музей России». [Морской…, 2004].
Читать дальше