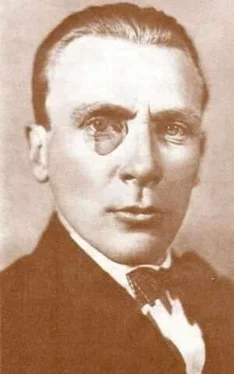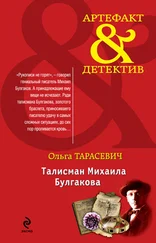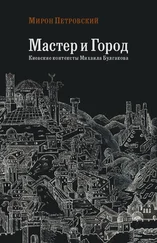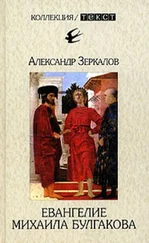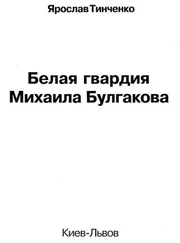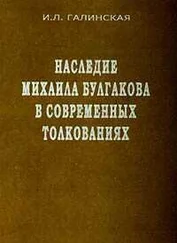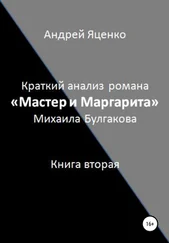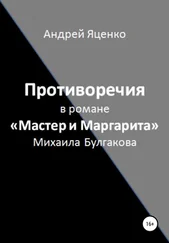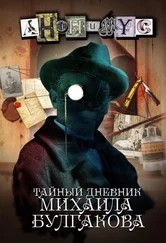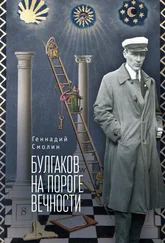О, блаженство — даже самому страшному времени говорить в глаза только правду! И никогда не изменять ей.
Пустота, шуньята, покой, нирвана — это в буддийской метафизике гавань всех человеческих устремлений. Гавань блаженства. Оттого истинные творцы выше всех наслаждений жизни ценят наслаждение творчества. Но им мало одной такой гавани, они, мятежные, ищут покой в буре. Почему? Потому что нирвана (безветрие) предполагает вторую свою грань — бурю. Без неё человек слабеет. Лучше всего это понимал и выразил Пушкин: «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать». Булгаков наглотался страданий слишком много и запросил покоя.
Но покой для творца — тоже работа, другая её форма…
Когда все пути для творческой самореализации были ему перекрыты, Художественный театр предложил инсценировать «Мёртвые души». Перечитав роман, Булгаков сказал, что инсценировать Гоголя невозможно, нужна самостоятельная пьеса. Пьеса так пьеса, согласились в театре. Он написал её, ввёл главное действующее лицо — самого Гоголя, вложил в его уста слова из других гоголевских сочинений и, конечно, вдохнул в пьесу самого себя — весёлого, страдающего, грустно смеющегося Булгакова. Но как это сделал? Исследователи булгаковской пьесы не обнаружили в ней ни одной не то что собственной его фразы, но даже ни одного негоголевского слова. Всё только Гоголь. Унисон, достойный двух гениев.
Она и теперь идёт, эта пьеса, — булгаковский завет театру, как нужно работать с классикой.
Сегодня на Гоголе кто только не самовыражается. Какой-нибудь сверхмодный режиссёр непременно введёт в сцену ухаживаний Хлестакова за Марьей Андреевной и Марьей Антоновной «сексуальные» эпизоды. Иначе какой он сокрушитель старой морали! А главное — ведь не предоставит нынешний театр свои подмостки, не заплатит денег без подобного сокрушительства.
Михаил Афанасьевич никогда ни в чём не следовал не только вкусам властей, но и вкусам толпы. Творчество для него было священнодействием, говоря словами его современника Бориса Пастернака, чудотворством. Анна Ахматова, написавшая в 1940 году стихотворение на смерть Булгакова, определила его творческую бескомпромиссность как «великолепное презренье». Но стоило ему это качество великих страданий.
Тем не менее нет ничего пошлее, чем изображать Михаила Булгакова мучеником и страдальцем. Как несовместимы гений и злодейство, так же невозможен гений, испытывающий непрерывные фрустрации. Жизнь Булгакова многоцветна. Всё, чем только может одарить она человека, он получил за свои неполные пятьдесят лет пребывания на Земле. Были слава и замалчивание, деньги и безденежье, много друзей, ещё больше врагов, сладость творчества и травля критиков, ненависть властей и любовь женщин. И Божественная кульминация, апофеоз его жизни, его предсмертный экстаз — прежде чем умереть, он сумел поставить точку в бессмертном романе.
«Никогда ни о чём не просите, принесут сами…» — говорил он. Это не совет моралиста, это его жизнь. В самые тяжкие дни творческого простоя и безденежья появлялся некто из Москвы, Ленинграда, Средней Азии, просил написать пьесу или инсценировку.
— Без аванса не возьмусь за работу.
— Выплатим аванс. Немедленно.
— Вам могут запретить ставить мою пьесу, — продолжал Мастер, — и я не смогу вернуть полученные деньги, потому что они будут истрачены.
— Мы согласны на такое условие в договоре — не потребуем возвращения денег, если пьеса не пойдёт.
Были ли случайные некто посланцами Сталина или самого Главного Некто, который давал писателю счастливые передышки? И чего Главный Некто добивался от своего подопечного, пропустив его через столь безжалостные жернова жизни? Ницше сказал: «Человек — это то, что необходимо преодолеть». Зачем? Чтобы человек смог когда-нибудь стать Иешуа или в далёком будущем самим Некто?
Он был далёк от того, чтобы считать себя святым, но была в его снах и святость. Великое счастье Булгаков обрёл в любви к Елене Сергеевне Шиловской, ставшей его женой в 1927 году. Она была ангелом-хранителем писателя при жизни, а после смерти — хранителем великого романа, который довела до публикации почти через тридцать лет со времени написания. В русской литературе ХХ века два примера столь талантливо описанной высокой любви: булгаковский и шолоховский — в «Тихом Доне». Но автор «Мастера и Маргариты» не только опоэтизировал большую любовь, он прожил её.
Три замечательные женщины прошли через его жизнь: Т.Н.Лаппа, Л.Е.Белозерская и Е.С.Шиловская. Все три спасали, вытаскивали его из котлов с горячей и ледяной водой…
Читать дальше