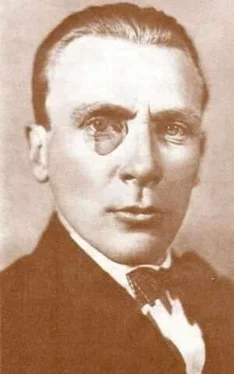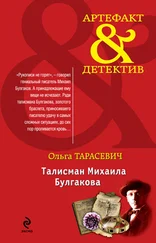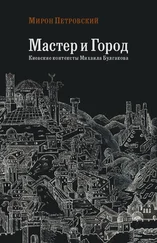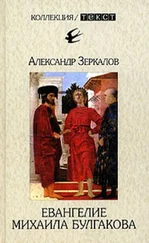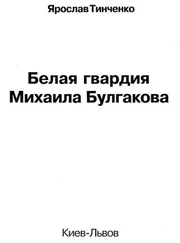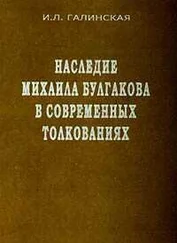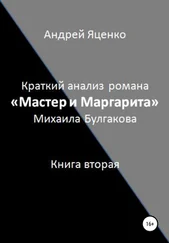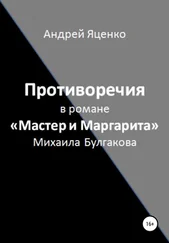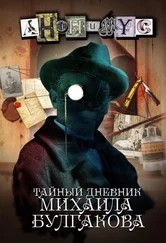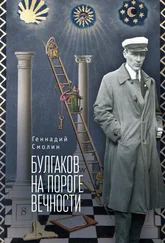Трезвый Булгаков, больше всего любивший в жизни творчество и порядок, ценил в Сталине государственника, оседлавшего русскую смуту и усмирившего бунтарей. Его отношение к кровавым русским царям было подобно отношению к ним Пушкина, который, оценивая царствование Ивана Грозного, высказался примерно так: «Рубить головы — обычное дело государей». Но дело художника совсем иное — никогда не уклоняться от истины, не терять творческой свободы, даже если рискуешь потерять голову. Мало кто из современников Булгакова, как, впрочем, и Пушкина, поднимался до осознания этого простого, но тяжкого правила. Правила гениев.
Некоторые исследователи-булгаковеды отказывают роману «Мастер и Маргарита» в правдоподобном изображении Иисуса Христа, дескать, писатель дал образ некоего Иешуа Га-Ноцри, наполнив его собственным автобиографическим дыханием. Конечно, в образе Иешуа есть черты судьбы самого Булгакова. Но не таковы ли все литературные герои больших мастеров, даже списанные с исторической натуры?
Булгаков, естественно, не смог увидеть всего Христа, эта задача не по силам ни одному представителю современного человечества. Но несомненно также, что булгаковское изображение родоначальника христианства расширяет рамки нашего понимания Иисуса Христа как Богочеловека. Та верность истине, которую проявили Иешуа и Мастер, и есть основа Божественной составляющей человека.
Известная фотография с моноклем в глазу и бабочкой на шее хорошо передаёт многоликий образ писателя. Он вставлял в глаз монокль и надевал бабочку, намеренно эпатируя новую интеллигенцию в косоворотках и сапогах. Но любил также всякие переодевания и розыгрыши.
Он предложил в одной из своих книг шутливую загадку: «В украинском языке “кот” это “кит”. А как по-украински звучит русское “кит”?» В Киеве я предложил этот булгаковский коан своим украинским друзьям. Мне ответили: «кит» (в смысле «кот») произносится как «кыт». В литературе 1920-х–1930-х годов Булгаков был именно таким «кытом», которого хотели превратить в домашнего кота. Или… в загнанного волка. В письме Правительству СССР от 28 марта 1930 года он писал: «На широком поле словесности российской в СССР я… один-единственный литературный волк. Мне советовали выкрасить шкуру. Нелепый совет. Крашеный ли волк, стриженый ли волк, он всё равно не похож на пуделя. Со мной и поступили как с волком… Злобы я не имею, но я очень устал… Ведь и зверь может уставать».
Зафлаженный толпами критиков-охотников Булгаков в изнеможении отлёживался дома, именно как загнанный волк. Но на себя наговаривал лишнее, волком не был. Он мог бы сказать о себе вместе с Осипом Мандельштамом: «Мне на шею кидается век-волкодав, /но не волк я по сути своей». Но, в отличие от по-мальчишески безрассудного Мандельштама, мудрый «кыт» никогда не ввязывался в прямую схватку с режимом и самодержцем, уходил в намёки, в иносказания, в фантастику.
Но сны не спасали. Век-волкодав доставал писателя всюду.
Почему Булгаков не уехал из России? В период между 1917 и 1919 годами такая возможность возникала у него не однажды, он в ту пору жил в Киеве, в Пятигорске, во Владикавказе, ещё не занятых окончательно большевиками. Ушли вместе с армией Деникина за рубеж два его брата, Иван и Николай, ушли многие друзья. Булгаков же остался, активно включившись в культурную работу молодой Советской республики. Но с первых шагов такой работы заявил о себе если не как «контрик», то по крайней мере как активный «бывший», защищая культурное наследие прошлого. Он не желал поступаться своими «снами», но, тоскуя по прошлому, не держал кукиша в кармане против новой власти. Его рыцарское сердце и мудрая голова сдерживали личное неприятие режима, хотя ум подсказывал — ходу его перу не дадут.
С сарказмом, но и с большим внутренним теплом он описал в некоторых героях «Театрального романа» черты тех, кто пошёл на компромисс с Советской властью: Станиславского, Немировича-Данченко, Алексея Толстого. Бонвиванскую натуру последнего Булгаков рисует даже с некоторой долей зависти, потому что сам любил хорошо пожить. Но если таланту компромиссы ещё позволены, то для гения « продуман распорядок действий и неотвратим конец пути ».
Здесь я рискну заглянуть в запредельные области метафизики, прикрывшись авторитетом Даниила Андреева, который ввёл понятие метаистории, — она сопровождает обычную земную историю и очень часто предшествует ей. Рождение гения начинается на небесах, когда человеческий дух заключает с Богом контракт на выполнение определённой исторической задачи. Но чтобы «нижеподписавшийся» не забыл о своём контракте, его сопровождает по жизни гений, в своё время хорошо описанный Сократом. Жизнь того, кому дан гений, никогда не бывает лёгкой, хотя он знает минуты блаженства, недоступные обычному человеку. Но если отмеченный Богом человек изменит контракту, гений отступит от него. Чем это заканчивается, могут объяснить глаза врубелевских демонов.
Читать дальше