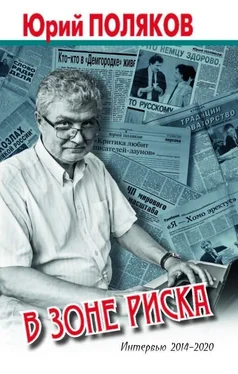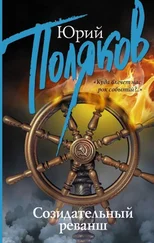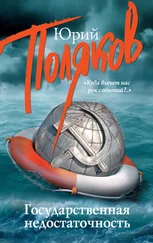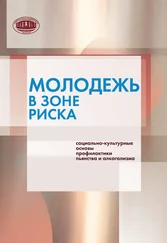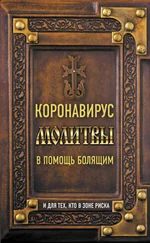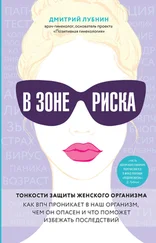– Во-первых, редакционный совет и я, как его председатель, будем отстаивать тот курс «ЛГ», который помог ей вернуть читательское доверие, почти утраченное в 1990‐е, когда газета взяла оголтело-либеральное направление. Если начнут уж слишком давить, обращусь к президенту. Мне выпало дважды на выборах быть доверенным лицом Владимира Владимировича. Надеюсь на его поддержку. Он, кстати, дважды распоряжался помочь нашей газете, чтобы она могла поддерживать уровень, достойный её места в отечественной культуре. Увы, царь любит, да псарь не любит. Как я уже сказал, оперативное руководство газетой сейчас осуществляет шеф-редактор Максим Замшев. Не знаю, как его должность будет называться в новом штатном расписании, но надеюсь, он возместит свой скромный писательский авторитет и ещё более скромный журналистский опыт усердием. Главное – он знает писательский мир, и по взглядам, кажется, близок ко мне. Впрочем, будущее покажет. Люди сильно меняются, получив даже ничтожную власть. Но думаю, пока перспективное планирование и выбор базовых тем мы будем осуществлять сообща. Времена предстоят непростые. Надеюсь, власть очень скоро поймёт, что, оттолкнув от себя патриотическую интеллигенцию, она превратится в автомат Калашникова, стреляющий губной помадой.
– Чем собираетесь после освобождения от нагрузки в «ЛГ» заняться лично Вы?
– Думаю, нагрузка эта пожизненная. Просто часть ноши я, как и положено 60-летнему человеку, передал тому, кто моложе. Другим тоже советую. А заниматься я буду, чем и занимался всегда – литературой. Книги выходят, пьесы идут, замыслы роятся. Заканчиваю новый роман «Весёлая эпоха». События происходят в 1983 году. Многих эта вещь удивит, напомнив Полякова времён «Апофегея» и «Эротического ликбеза». Во МХАТе имени Горького репетируют спектакль по моей новой комедии «Золото партии». Веду переговоры об экранизации романа «Любовь в эпоху перемен». Всю жизнь пробыть главным редактором невозможно. А вот всю жизнь быть писателем, если Бог дал способности, можно и нужно… Да, совсем забыл: сбросив часть административного груза, я и стихи снова стал писать, как в молодости. Готовлю избранное с разделом «Новое» для молодогвардейской серии «Золотой жираф». Именно это издательство в 1980 году выпустило мою первую поэтическую книжку «Время прибытия».
– Может быть, побалуете читателей «ЛР» новеньким.
– А и побалую… Но учтите, речь идёт не обо мне, о моём лирическом герое!
– Учтём.
Если бы…
Сели с другом. Взяли по сто грамм.
Выпили, немного закусили.
И пошли бы тихо по домам,
Если бы мы жили не в России.
Ну а дома всё нехорошо.
Слева в челюсть на второй минуте.
Я бы из семьи давно ушёл,
Если бы в Кремле сидел не Путин.
Утро, как заплёванный вокзал.
На меня супруга смотрит криво.
Я бы к люстре петлю привязал,
Если бы не возвращенье Крыма!
«Литературная Россия», июнь 2017 г.
«От кормушки не отваливаются даже сытые…»
Выход почти каждой книги Юрия Полякова сопровождается если не скандалом, то как минимум изрядным шумом. Вот и «Перелётная элита» не стала исключением: о ней уже говорят как о вызове. Кому, почему и за что он «бросает перчатку», автор рассказал «ВМ».
– Перелётными у нас, как правило, называют птиц. Иногда ещё саранчу. Откуда вдруг такая биологическая общность возникла у нашей пафосной элиты и представителей фауны?
– Название книге дала моя статья, опубликованная некоторое время назад частично в «Литературке» и полностью на сайте «Свободная пресса». Речь о том, что национальной, социально ответственной, патриотической элиты у нас нет. А та, что есть, воспринимает Россию как некий вахтовый посёлок, где можно заработать большие деньги, а тратить их потом в «нормальных» странах. Саранча ведёт себя также: выжрав одно поле, просто перелетает на другое.
– Ну да, и без «сантиментов»…
– Абсолютно! Рефлексирующей «саранчи», даже если её зовут «капитанами большого бизнеса», я не видел. И детей своих, тех, что сшибают на роскошных спортивных авто бедных пешеходов, они воспитывают так же, чаще всего в странах, объявивших России санкции.
– Может быть, это своеобразные болезни роста – наш капитализм, в общем-то, юн?
– Да вы что! Двадцать пять – недетский возраст. К тому же, наши олигархи начинали свой бизнес не с удачно перепроданной банки варенья. Их щедро наделили собственностью и стартовым капиталом. Русский капитализм с конца XIX по начала ХХ века тоже развивался не более трёх десятилетий. Потом началась революция. Но тон задавали патриотичные предприниматели: Третьяковы, Бахрушины, Алексеевы, Мамонтовы, Морозовы, чьи отцы, вчерашние крепостные, начинали с медных денег… А нашим нуворишам фактически подарили заводы, месторождения, отрасли… Третьяковка-то у нас есть. А где «Фридмановка»? Где театры, библиотеки, больницы, училища, богадельни, построенные нынешними, а не прежними деловыми людьми? Нет и не будет. Наша элита живёт для себя. А вот мы, выходит, живём для них. Но если элита не желает быть патриотичной, у государства есть масса способов заставить её стать таковой или сделать так, что она перестанет быть элитой. Была бы политическая воля.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу