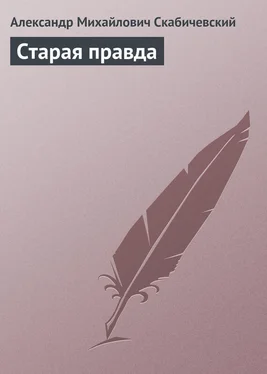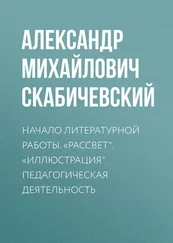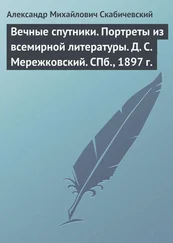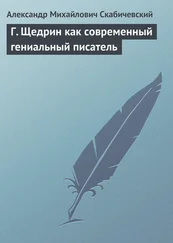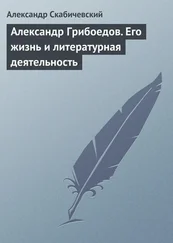С XV века Европа начала переживать кризис, подобный кризису, которого не мог пережить древний мир. Подобно тому, как и там, в воздухе начали носиться идеи общечеловеческих интересов, братства, любви и свободы – вместо узких принципов родового эгоизма, завоевания и порабощения.
Но родовой быт вовсе не такой хрупкий, чтобы сломить его можно было одним ударом, одним почерком пера, как изменить какую-нибудь французскую конституцию. В продолжение целых тысячелетий он успел глубоко вкорениться во все, так сказать, поры жизни европейских обществ. Для того чтобы окончательно пережить его, необходимы дружные усилия и неустанная борьба целых сотен поколений. Если современное нам человечество успело уже во многих отношениях пошатнуть принципы родового быта, если завоевательная политика все более и более уходит на задний план, если рабство уничтожено в Европе и Америке, если рушатся ежедневно различные феодальные привилегии, – то во всяком случае родовой быт все еще остается господствующим во многих отношениях людей между собою. Семейство в большинстве европейских обществ до сих пор еще основывается на родовых началах рабства женщин и детей и деспотизма старших; соперничество родов перешло с почвы владычества меча на почву владычества капитала, и рабы заменились наемниками.
Жизнь, изображенная в романе Гончарова, является перед нами старою именно потому, что в ней мы видим все принципы быта и многие черты нравов, совершенно аналогичные с чертами нравов семьи какого-нибудь средневекового феодального мира или древнего, классического.
Как известно, в родовой семье существуют два необходимые элемента: с одной стороны, старшие члены, пастыри, патриархи, устроители и охранители рода – элемент господствующий; с другой стороны – низшие члены рода, паства, охраняемая пастырями, – элемент подчиненный.
Пастырями и охранителями являются в романе тетушки Беловодовой и бабушка Райского. Несмотря на различие характеров и вытекающего из этого различия в способе управления, мы увидим, что как первые, так и последняя преследуют одни и те же цели и приходят к одним и тем же результатам.
III
Тетушки Беловодовы принадлежат к тем сферам нашей жизни, где охранение родовых начал возведено в сознательную стройную систему, доведено, с одной стороны, до самого узкого педантизма, а с другой – до крайнего фанатизма, напоминающего фанатизм испанского католичества. Не ждите здесь и тени самостоятельного, свободного движения мысли, чувств, и что тут говорить о каких-либо высших принципах и проявления хотя бы чего-нибудь похожего на чувство сострадания, участия к ближнему: все здесь подчинено узким интересам родового эгоизма, и малейшее отклонение от раз определенных законов компрометирует уже род то со стороны его значения, то со стороны его чести. В этой сфере жизни даже присутствие бедного учителя на обеде или soirée musicale [ музыкальный вечер – фр. ] наносит уже оскорбление роду и коробит пастырей.
«Когда папа́ привез его (учителя) в первый раз после болезни, – рассказывает Беловодова, – он был бледен, молчалив… глаза такие томные… Мне стало очень жаль его, и я спросила его, чем он был болен… Он взглянул на меня с благодарностью, почти нежно… Но maman после обеда отвела меня в сторону и сказала, что это ни на что не похоже девице спрашивать о здоровье молодого человека, еще учителя, «и бог знает, кто он такой!» – прибавила она. Мне стало стыдно, я ушла и плакала в своей комнате, потом уж никогда ни о чем не расспрашивала».
А затем стоило несчастной барышне, вследствие естественной, почти детской влюбчивости, покраснеть при входе учителя на soirée musicale и сыграть не совсем равнодушно музыкальную пьесу, для того чтобы в доме поднялась страшная буря.
«Maman, не простясь, ушла после гостей к себе. Надежда Васильевна, прощаясь, покачала головой, а у Анны: Васильевны на глазах были слезы… Наутро я ждала, пока позовут меня к maman, но меня долго не звали. Наконец за мной пришла ma tante Надежда Васильевна и сухо сказала, чтоб я шла к maman. У меня сердце сильно билось, и я сначала даже не разглядела, что было и кто был у maman в комнате. Там было темно, портьеры и сторы были спущены, maman казалась утомлена; подле нее сидела тетушка, mon oncle prince Serge и папá… Папá стоял у камина и грелся. Я посмотрела на него и думала, что он взглянет на меня ласково; мне было бы легче. Но он старался не глядеть на меня; бедняжка папá боялся maman; a я видела, что ему было жалко. Он все жевал губами, он это всегда делает в ажитации, вы знаете… «Позвольте вас спросить, кто вы и что вы?» – тихо спросила maman. «Ваша дочь», – чуть-чуть внятно ответила я. «Не похоже. Как вы ведете себя!» Я молчала, отвечать было нечего… «Что за сцену разыграли вы вчера, комедию, драму? Чье это сочинение, ваше или учителя этого… Ельнина?» – «Maman, я не играла сцены, я нечаянно…» – едва проговорила я; так мне было тяжело. «Тем хуже, – сказала она, – Il у a donc du sentiment lá dedans? Вот послушайте, – обратилась она к папá, – что говорит ваша дочь. Как вам нравится это признание?» Он, бедный, был смущен и жалок больше меня, и смотрел вниз; я знала, что он один не сердится, а мне хотелось бы умереть в эту минуту со стыда… «Знаете ли, кто он такой, – сказала maman, – ваш учитель? Вот князь Serge все узнал: он сын какого-то лекаря, бегает по урокам, сочиняет, пишет русским купцам французские письма за границу за деньги и этим живет…» – «Какой срам!» – сказала ma tante. Я не дослушала дальше; мне сделалось дурно. Когда я опомнилась, подле меня сидели обе тетушки, и папá стоял со спиртом. Maman не было. Я не видела ее две недели. Потом, когда увиделись, я плакала, просила прощения. Maman говорила, как поразила ее эта сцена, как она чуть не заплакала, как это все заметила кузина Любимова и пересказала Михайловым, как те обвинили ее в недостатке внимания, бранили, зачем принимала бог знает кого. «Вот чему ты подвергла меня!» – заключила maman. Я просила простить и забыть эту глупость и дала слово вперед держать себя прилично».
Читать дальше