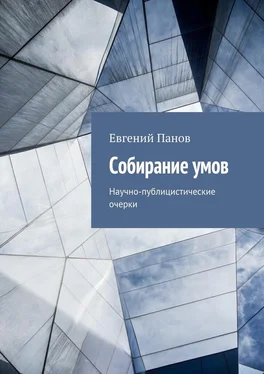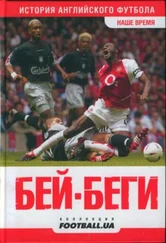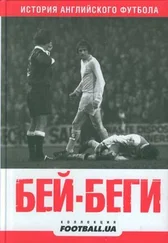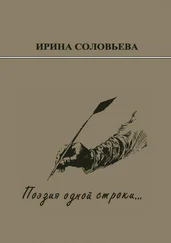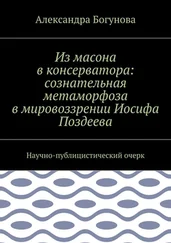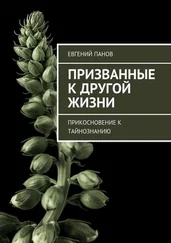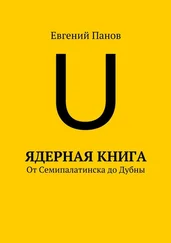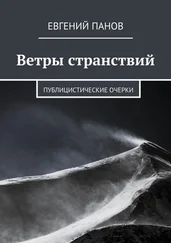Итак, ни государство, ни общество не могут играть роль нравственного арбитра, гаранта справедливости продолжающихся реформ. И это очень тревожно, поскольку власть то и дело выступает с новыми инициативами. Свежий пример – замена льгот денежными компенсациями, то есть, по сути, традиционных общественных, читай, человеческих связей голыми монетарными отношениями. Кто разрабатывает идеологию и программу этих бездушных «мероприятий»? Кто эти люди, берущие на себя смелость резать по живому? Мы их не знаем. Публичные политики лишь озвучивают предложения и отчитываются за продвижение социальных проектов. Те, кто в действительности их составляют, не пишут статей, не выступают с докладами, не призывают к обсуждению концепций. Вполне возможно, что проекты сочиняется где-нибудь на государственной даче бригадой безликих «технологов» точно так же, как бригадами младореформаторов сочинялись в ельцинские времена эпохальные концепции и программы.
Какими убеждениями руководствуются эти «технологи»? Существуют для них такие вещи, как моральные принципы и нравственные нормы, понятия добра, всеобщего блага? Говоря прямо, каков их духовный облик? В чем их вера? Знают ли они свою страну, свой народ? У русских отсутствуют агрессия и жесткость в бизнесе, говорил небезызвестный г-н Гусинский. А куда раньше него Николай Александрович Бердяев говорил о генетической небуржуазности России, ее «непризванности к благополучию». Простите за прямой вопрос, но читали ли анонимные «технологи» Бердяева, Франка, Ильина, Федотова, Розанова, других русских мыслителей? Знаком ли им западный взгляд на нашу страну как на явление природы? Ведь даже такой известный недоброжелатель России, как Карл Маркс, вынужден был признать, что в избавлении от татарского ига есть нечто чудесное… Помнят ли «технологи» о том, что русский бизнес несет на себе наследственный отпечаток православной этики, в системе которой «сребролюбие есть зло»?
Скорее всего, мы не получим ответы на эти вопросы. Они звучат риторически, даже наивно. На чей-то взгляд – неприлично. Но ведь духовный облик идеологов и технологов реформ, их представления о нравственности, их интеллектуальный, культурный, профессиональный багаж – вовсе не их частное дело. Их некомпетентность и безнравственность может дорого обойтись всем нам. Чем обусловлен, например, выбор ваучерной схемы приватизации – некомпетентностью? Возможно, это профессиональная ошибка. А возможно, никакой ошибки нет – идеологи и исполнители достигли тех целей, которые перед собой ставили. Однако эти цели не имеют ничего общего с установлением более идеального порядка, отменой вопиющей несправедливости, уничтожением нестерпимого беспорядка, то есть, с целями реформы бытия, направленной на его обогащение новыми благами. В таком случае, ваучеризация – это нравственный просчет, а вся проведенная по этой схеме приватизация от начала до конца безнравственна.
Значит, неудача реформ последнего десятилетия в России во многом объясняется их бездуховностью. Нельзя допустить, чтобы неудачей окончилась и земельная реформа. Поэтому при ее проведении нужно учитывать внеэкономические факторы и принимать во внимание внерыночные критерии справедливости. Хотя «внеэкономичность» и «внерыночность» этих факторов оказываются весьма относительными. Наоборот, критерии справедливости и нравственности оборачиваются в российских условиях критериями экономической эффективности. В условиях рискованного земледелия нетрудно разорить оставшиеся хозяйства, скупить земли, сконцентрировать их в руках новых латифундистов. Лучшие участки будут использоваться для сельскохозяйственного производства. На остальных – а это преобладающая часть российских земель – выгодность инвестиций будет низкой в сравнении с Европой. Без льгот, без гарантий со стороны государства ведение рыночного хозяйства на такой земле не имеет экономического смысла. Без участия и без гарантий государства никакой рынок у нас невозможен.
Государство всегда отвечало за экономическую сторону жизни народа, говоря жестче, в его обязанности всегда входило дать своим подданным хотя бы кусок хлеба, обеспечить их простое выживание. С другой стороны, государство всегда могло потребовать от народа столько труда и крови, сколько нужно было для войны, строительства или подвигов во славу власти. Эта российская особенность определяет общинный, общественный, общегосударственный характер использования ресурсов страны. Север, далекие окраинные земли – хранилище главных национальных богатств – приобретались всем миром (хотя и в лице отдельных богатырей) и держались всем миром (хотя и в лице наместников с их отрядами). Россия разрослась до гигантских размеров потому, что никто из пионеров не столбил участков лично для себя, не оседал на золотоносных ручьях, не собирал себе сокровищ. Нет, закрепляли земли за царем, за державой и шли дальше.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу