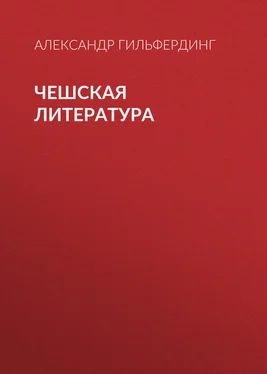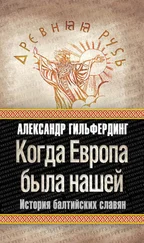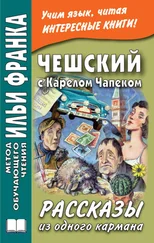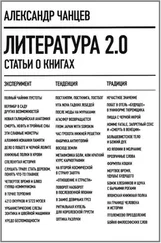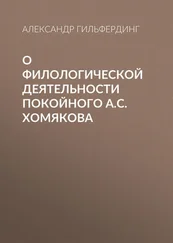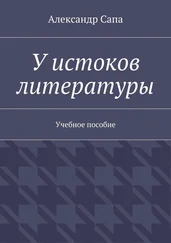Во вражде своей к чешской народности, не всегда разборчивые на средства немцы старались набросить тень подозрения на подлинность и «Любушина Суда» и «Краледворской Рукописи». Сущность их аргументов заключалась, собственно, в одном: как-мол могли славяне, народ грубый и к цивилизации неспособный, иметь, да еще в столь древнюю пору, такие превосходные поэмы, которые, пожалуй, лучше немецких творений того времени! Но, как водится, аргумент этот облекался в разные учоные доводы. Труды Шафарика и Палацкого, Томка и Иречка устранили все эти злонамеренные нападки и поставили подлинность «Любушина Суда» и «Краледворской Рукописи» выше всякого сомнения. Впрочем, подобное сомнение было столь же нелепо, как раздававшиеся некогда и у нас возражения против подлинности «Слова о полку Игореве». В ту пору, когда найдены «Слово», также как «Любушин Суд» и «Краледворская Рукопись», сведения о древнем языке и быте славян были таковы, что для подделки подобных произведений требовался бы не только изумительный гений поэта, но и дар провидения открытий, сделанных наукою лишь в последние десятилетия.
«Любушин Суд» и стихотворения «Краледворской Рукописи» представляют много сходного с народными эпическими песнями, которые и ныне еще поются у сербов и болгар. Но мы едва ли можем причислить эти произведения чешского эпоса непосредственно к области так-называемой народной поэзии. Нет, они относятся к тому периоду творчества, когда народная песнь и поэзия художественная еще не отделялись. Кто решит, принадлежат ли рапсодии Гомера к народной поэзии или в художественной литературе? Так точно и эти древние чешские творения. В те первобытные эпохи были у всех почти народов особые певцы по ремеслу (рапсоды, барды, скальды и т. д.). Их потомков мы находим в нынешних сербских гуслярах, малороссийских бандуристах, сказителях нашего Севера. Но между теми «соловьями старого времени» и нынешними певцами та громадная разница, что эти последние ограничены тесным кругом сельской жизни и, с иссякновением творчества, большею частью только повторяют довольно плохо сохраняемые в памяти остатки старинных песен; а в первобытные эпохи – рапсод был спутник, нередко друг и советник князя, представитель высших общественных интересов и высшей мудрости в стране. Что княжеские певцы имели некогда и у славян такое же значение, как в первобытные эпохи Греции, Германии, Скандинавии и т. д., на то есть достоверные указания; и к произведениям этих-то певцов мы относим, как «Слово о Полку Игореве», так и «Любушин Суд» и стихотворения «Краледворской Рукописи». Оттого-то в них и совмещается характер непосредственной народной поэзии с несомненными признаками художественной отделки.
«Любушин Суд», «Забой» и «Честмир и Власлав» переносят нас в эпоху язычества. В первом изображается распря, бывшая поводом к призванию на престол Премысла, родоначальника первой династии чешских государей. «Забой» воспевает победу, освободившую Чехию от вторжения немецких войск при Карле Великом или одном из его преемников. В поэме «Честмир и Власлав» описывается борьба пражского князя Неклана с князем племени лучан (в северо-западной части Чехии) Владиславом, борьба кончившаяся смертью Властислава и торжеством пражского государя над племенной усобицей. Эти три поэмы единственные литературные памятники до-христианского времени у славян. О поэтических красотах их мы не будем распространяться; их почувствует всякий, кто прочтет эти стихотворения, помещонные в настоящей книге целиком. Но чего нельзя передать в переводе – это чудная простота и сила древнего поэтического языка, в котором каждое слово отчеканено с выразительностию и отчетливостью, какие можно найти только у величайших художников. Форма в «Любушином Суде» – 10-ти сложный эпический стих, господствующий поныне в сербском народном эпосе; тот же размер преобладает и в «Забое» и в «Честмире и Влаславе», но местами переходит в вольный стих, уподобляющийся поэтической прозе «Слова о Полку Игореве». Любопытно, что в этих поэмах заметны следы так-называемой аллитерации (созвучия), составляющей также особенность древнейшей германской и скандинавской поэзии [1] К примерам аллитерации, которые приводит г. Прочек, прибавим следующие стихи из «Честмира и Власлава»: Вз радова се Во ймир велевеле Взв ола с скалы гл асем в лесе гл учным: Незъярьте се, бози, свему сл узе, Еж не пали обеть в днешнем сл унци! и т. д.
.
Читать дальше