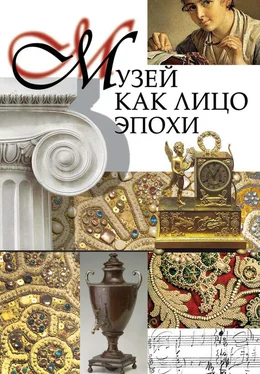В концепции, по которой реакционное боярство враждебно централизации, заключено внутреннее логическое противоречие. Как известно, высшим правительственным учреждением была Боярская дума, все указы и законы оформлены как «приговоры» или «уложения» царя или великого князя с боярами. Все историки согласны, что воплощенная в этих указах правительственная политика была направлена на централизацию страны; таким образом, если придерживаться традиционной концепции, – против боярства. Итак, боярство – своего рода коллектив самоубийц, настойчиво проводящий меры, направленные против себя? Разумеется, эти рассуждения недостаточно доказательны – ведь реальная жизнь слишком сложна и плохо подчиняется строгим логическим схемам. Да и читатель, знакомый с историей, вправе спросить: а как же быть с боярской идеологией, с убежденностью бояр в своем наследственном праве участвовать в управлении государством и тем самым ограничивать власть монарха? И на память сразу приходит князь Курбский, тот самый, что «от царского гнева бежал». «Идеолог боярской оппозиции», он будто бы требовал ограничить царскую власть. Впрочем, давно существует и иная оценка взглядов Курбского. Крупнейший советский историк С. Б. Веселовский писал, что «все притязания Курбского сводятся к тому, чтобы не быть битым без вины и без суда».
Что ж, приглядимся к писаниям беглого боярина. Первое, что бросается в глаза, – его аристократизм. Рассказывая о жертвах гнева царя Ивана, он классифицирует их по генеалогическому принципу. Он никогда не упустит заметить, что казненный – «славнаго» или «велика» рода, указать, кому он «единоплемянен». Но из этого вовсе не следует, что Курбский стремился ограничить власть царя советом знати. Князь восхваляет политику «Избранной рады» – правительственного кружка пятидесятых годов XVI века, во главе которого стоял незнатный дворянин Алексей Адашев, кружка, много сделавшего для укрепления централизации. Да, Курбский считал, что царь нуждается в советах «мужей разумных и совершенных… предобрых и храбрых… в военных и в земских вещах по всему искусных». Однако в этом перечислении достоинств нет знатности, и не случайно. Ведь в другом месте Курбский подчеркнул, что царь должен искать советов и «у всенародных (простонародных. – В. К .) человек», ибо «дар духа дается не по богатству внешнему и по силе царства, но по правости душевной».
Да, бояре с детства считали, что призваны участвовать в управлении страной и командовании войсками, но не как хозяева, а как верные слуги государя. И тщетно стали бы мы искать в их писаниях даже намек на борьбу против централизации. Все дело в том, что на самом деле бояре, крупные феодалы, были не меньше, а, пожалуй, даже больше, чем мелкие, экономически заинтересованы в единстве страны. Чтобы понять, на чем основан этот непривычный вывод…
Приглядимся к боярским вотчинам
Вот перед нами завещание Петра Михайловича Плещеева, составленное около 1510 года. Сам Петр Михайлович не дослужился до боярского чина, а был всего лишь окольничим. От отца – боярина Михаила Борисовича – ему удалось получить не так уж много: один из семерых сыновей, он, естественно, унаследовал небольшую часть отцовских вотчин. Но Петр Михайлович всю жизнь покупал новые вотчины, в том числе у родственников, – верно, был рачительным хозяином, да и на кормлениях сумел неплохо нажиться. Всего под конец жизни у этого феодала было шесть сел с сорока семью деревнями и одиннадцатью пустошами в четырех уездах: Московском, Переславль-Залесском, Верейском и Звенигородском. В шести уездах владели землями выходцы из того же рода Алексей Данилович Басманов и его сын Федор. Это правило, а не исключение. Для крупных русских феодалов не характерны обширные латифундии, расположенные «в одной меже», такие, чтобы можно было целый день ехать и в ответ на вопрос, чьи это земли, слышать, как в сказке, одно и то же: маркиза де Караба. Такие бояре, владевшие землями одновременно в нескольких уездах, – а границы уездов обычно совпадали со старыми границами княжеств, – естественно, были противниками удельного сепаратизма: он угрожал их землевладельческим интересам.
А не была ли иной позиция титулованной знати, отпрысков старых княжеских родов, утративших свою независимость и ставших сначала вассалами, а потом и подданными государя всея Руси? Конечно, у них сохранились и ностальгическая тоска по «доброму старому времени», и доля неприязни к «кровопивственному» роду московских князей (выражение одного из таких потомков удельных князей, Курбского). Но жизнь брала свое. Бывшие удельные владыки входили в Думу, становились воеводами в полках, наместниками в уездах, разбирали судебные дела. Эти поручения носили общерусский характер, требовали разъездов по стране. И князьям стали необходимы вотчины за пределами родового гнезда, чтобы на новом месте не зависеть от рынка, не пользоваться покупной провизией: в условиях натурального хозяйства иначе жить слишком разорительно. Да и полученные на службе, главным образом на кормлениях, средства создавали возможности для покупок.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу