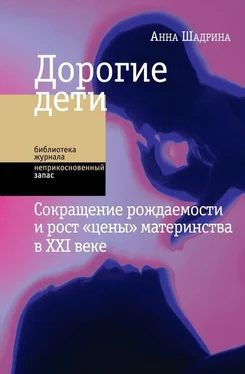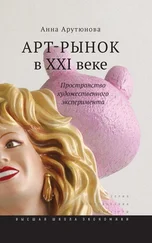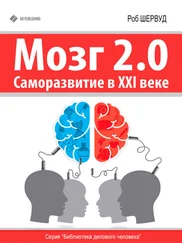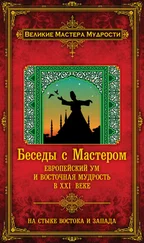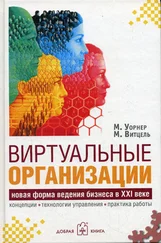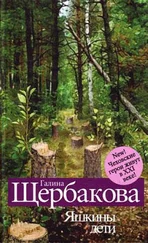В последующих главах я буду отталкиваться от традиции «детоцентризма», которая сегодня воспринимается как неоспоримый стандарт ухода за детьми. Эта культура подразумевает практики заботы, известные под названием «интенсивное материнствование» [4] Я использую определение «интенсивного материнствования», разработанное Шерон Хейз. См.: Sharon Hays. The Cultural Contradictions of Motherhood. New Haven and London: Yale University, 1996.
. Так называется известный нам сегодня способ взаимодействия с ребенком, нацеленный на обеспечение его или ее эмоционального комфорта и всеобъемлющее развитие детского потенциала. Иначе говоря, в этой новой культуре родительствования нужды ребенка провозглашаются приоритетными по сравнению с потребностями заботящихся взрослых. Однако традиция детоцентризма — довольно новый феномен, в «нашей части света» утвердившийся лишь в последние десятилетия.
В современных русскоязычных медиа часто поднимается проблема педагогической «отсталости» советских матерей, которые сегодня задним числом обвиняются либо в слишком сильной, «удушающей любви», либо в «эмоциональной недоступности». На мой взгляд, эта риторика является продуктом нового для нас рынка психологического консультирования, использующего при продвижении своих услуг устрашающую категорию «детской психологической травмы». Я не пытаюсь утверждать, что детской психологической травмы не существует. Я лишь хочу обратить внимание на то, что страдания — неотъемлемая часть человеческого опыта в любом возрасте и мифологизированная фигура матери не в силах избавить от них, как люди ни стремились бы дать лучшее своим детям.
Публичный дискурс обвинения матерей — довольно новое, на мой взгляд, явление, ставшее результатом определенных общественных трансформаций. В советское время материнство определялось как благородное и почетное служение общественной системе [5] См.: Sara Ashwin. Introduction Gender, State and Society in Soviet and Post-Soviet Russia // Gender, State and Society in Soviet and Post-Soviet Russia / Ed. by Sarah Ashwin. London: Routledge, 2000. P. 11.
. На фоне социальных катастроф XX века о матерях было принято говорить с почтением и любовью, о чем, например, свидетельствуют документальные произведения Светланы Алексиевич. Так, в книге «Последние свидетели (соло для детского голоса)» [6] Святлана Алексіевіч. Апошнія сведкі: кніга недзіцячых расказаў. Мінск: Юнацтва, 1985.
пережившие войну детьми люди, вспоминают о своих советских матерях с невероятной теплотой и нежностью, а посланные на афганскую войну герои «Цинковых мальчиков» [7] Светлана Алексиевич. Цинковые мальчики. Голоса утопии. М.: Известия, 1991.
продают местным жителям патроны, чтобы осуществить главную солдатскую мечту — купить матери подарок. Сегодня же заметной частью культурного процесса являются высказывания о том, что матери «калечат» детскую психику «неправильным» воспитанием, взращивая поколения «не приспособленных к жизни» людей.
В этой связи одной из основных исследовательских задач, которые я ставила перед собой в этой книге, было намерение выяснить, что происходит с социальной структурой, в результате изменений которой материнская фигура назначается источником проблем всего общества. Опираясь на работы феминистских исследовательниц, далее я буду прослеживать, как в «нашу часть света» приходят концепция «раннего развития» и идеология «интенсивного материнствования», которые в странах бывшего СССР в начале XXI века утверждаются за счет дистанцирования от советского опыта.
«Почему ваш ребенок без шапочки?»
В процессе создания книги я жаждала «обратной связи» от экспертов — моих современниц, растящих детей и ученых, работающих в поле феминистских исследований. В поисках отклика, который направлял бы ход моих мыслей, я публиковала наброски будущих глав в различных журналах. В одной из таких статей 2014 года [8] Анна Шадрина. Можно ли быть «хорошей матерью»? // MakeOut.by. 15.01.2014. http://makeout.by/2014/01/15/mozhno-li-byt-horoshey-materyu.html (доступ 20.09.2015).
, рассматривая отражение репрессирующей идеологии материнства в медиа, я обращалась к наиболее громким сюжетам последнего времени, в которых публично обсуждались практики заботы о детях и связанные с ними идентичности. В частности, мое внимание привлекло широкое обсуждение в русскоязычных СМИ появления первенца в семье принца Уильяма и герцогини Кембриджской Кэтрин.
Эта история была важна в контексте моей работы, поскольку она делает видимыми два важных аспекта современного института материнства. С одной стороны, стандарты заботы о детях сегодня формируются с оглядкой на привилегированных, «звездных» мам, в чьем доступе находятся армии помогающих профессионалов. С другой стороны, с распространением цифровых сетей и возможностью интерактивного создания информации в наше время буквально каждый человек может занимать экспертную позицию в отношении чего угодно; в результате каждый аспект материнства в начале XXI века пристально разглядывается и оценивается.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу