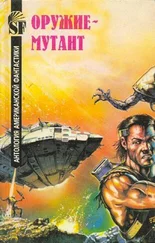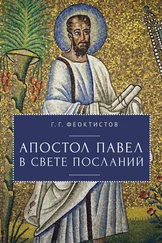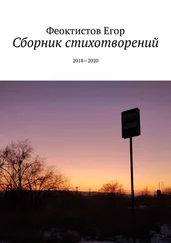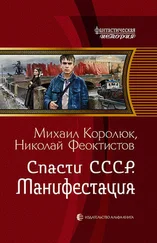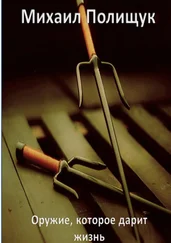Что же случилось в 1961 году, когда Советским Союзом в одностороннем порядке было принято решение о возобновлении испытаний? Чтобы решиться на этот шаг, который имел явно негативный политический оттенок, нужны были очень веские технические (или какие-то другие) мотивы.
К этому времени А.Д. Сахаров выступил в печати против воздушных испытаний. В статье, опубликованной в журнале „Атомная энергия“, подсчитывалось количество смертей из-за наведённого радиоактивного углерода. В „Воспоминаниях“ А.Д. Сахаров говорит об этой своей деятельности, и в общественном мнении закрепляется впечатление, что именно Сахаров является центральным лицом в утверждении договора 1963 года о запрещении воздушных испытаний. И это верно. Как верно и то, что многим картина представляется упрощённой, а следовательно, в той или другой степени искажённой.
Впрочем, судите сами. Хронология событий такова.
В октябре 1961 года в СССР, на полигоне Новая Земля, в верхней атмосфере взорвана самая большая бомба — мощностью 50 мегатонн (мощность , с целью уменьшения радиоактивности, была снижена примерно вдвое против проектной заменой урана на неделящиеся материалы) . Из последовавшего вслед за испытанием правительственного заявления мир узнал, что у Советского Союза есть бомбы мощностью 100 мегатонн, а, если надо, то и более.
В 1962 году продолжались испытания бомб — большой мощности (но всё же меньше, чем первая) . Выброшенная радиоактивность, несмотря на некоторые противомеры, существенно повлияла на состояние атмосферы и вызвала озабоченность общественности. В конечном счёте воздушные испытания московским договором 1963 года были запрещены. А.Д. Сахаров удостоен третьей Звезды Героя, многие получили другие награды.
Проницательный читатель в этом голом перечислении фактов наверняка усмотрит противоречия: с одной стороны — борьба против всяких испытаний, с другой — самая крупная серия в воздухе, с одной стороны — декларация о запрещении ядерного оружия, с другой — появление самого мощного вида, сопровождаемое торжеством правительства, пропагандистской шумихой и наградами. Всякому ясно, что за выступления против правительства Героя-то не дают. Как же обстояло дело в действительности?
Где-то в начале 1961 года до нас на Урал стали доходить слухи, что у наших конкурентов в Арзамасе-16 возникла идея новой „супербомбы“. Вскоре стало ясно, что речь идёт не о каком-то сверхоткрытии, а всего лишь об увеличении веса, габарита. Но зачем? Дело в том, что тенденция на наращивание мощности таким простым образом представлялась нам тривиальной, с одной стороны, и ненужной — с другой. Мы в то время были поглощены в точности противоположной идеей — миниатюризацией, о чём я уже говорил.
Вместе с тем (и об этом надо честно рассказать) ажиотаж, поднятый вокруг „супербомбы“, не мог оставить нас равнодушными и возбуждал в нас профессиональную ревность. Мы стали вникать в проблему — и тут же нащупали две слабые стороны у конкурента: их конструкция непрактично и неоправданно усложнена и, второе, перетяжелена настолько, что не лезет ни в один существующий и перспективный носитель.
Сегодня определённо можно сказать, что мы были правы. Все „большие бомбы“ пошли по нашему пути, а гордость ВНИИЭФ (Арзамас-16) 100-мегатонная бомба так и была изготовлена в одном экземпляре (испытательном) и в виде муляжа для музея.
Вскоре нам стала ясна причина повышенного внимания со стороны правительства к большим бомбам — оно было связано с возникшей тогда новой военной концепцией. Здесь уместно обратиться к цитате из „Воспоминаний“ А.Д. Сахарова:
„ После испытания „большого“ изделия меня беспокоило, что для него не существует носителя (бомбардировщики не в счёт, их легко сбить) — т. е. в военном смысле мы работали впустую “.
Боже мой, как сложна и противоречива наша жизнь, если такой высоконравственный человек (а он доказал это всей своей жизнью) , как А.Д. Сахаров, яростный борец против загрязнения атмосферы радиоактивностью, допускает испытание бомбы, которая приносит в атмосферу радиоактивность большую, чем все испытания вместе взятые, и не имеющую при этом военного смысла!
Однако продолжу цитату:
„…Я решил, что таким носителем может явиться большая торпеда, запускаемая с подводной лодки. Я фантазировал, что можно разработать для такой торпеды прямоточный водопаровой атомный реактивный двигатель. Целью атаки с расстояния несколько сот километров должны стать порты противника. Война на море проиграна, если уничтожены порты — в этом заверяют нас моряки. Корпус такой торпеды может быть сделан очень прочным, ей не страшны мины и сети заграждения. Конечно, разрушение портов — как надводным взрывом „выскочившей“ из воды торпеды со 100-мегатонным зарядом, так и подводным взрывом, — неизбежно сопряжено с очень большими человеческими жертвами.
Читать дальше

![Эдмонд Гамильтон - Звездный волк [= Оружие из прошлого, Галактическое оружие]](/books/25063/edmond-gamilton-zvezdnyj-volk-oruzhie-iz-proshlo-thumb.webp)