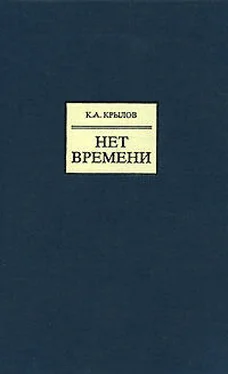Кстати, о киноцитатах: давайте о них не будем. То есть понятно, разумеется, что фотография Овчинникова, вытирающаяся после поцелуя — это из «Гарри Поттера», а прилизанный гадёныш Егор с аккуратно уложенными волосёнками — из «Омена». При желании, впрочем, можно дорыться и до Достоевского: герой, убивающий старушек «ради идеи», в данном случае — «по приколу». Есть там сцены из «Бриллиантовой руки», а есть из спилберговской «Войны миров». Не будем красть у читателя радость узнаванья — отметим только, что создатели фильма «изрядно подшутили».
Можно только пожалеть, что в дело не пошли другие артефакты искусства уходящей эпохи. Как органично смотрелось бы, скажем, финальное тёмное сборище на какой-нибудь выставке в галерее Гельмана — или, ещё лучше, на пресловутой «Осторожно, религия!» в сахаровском центре.
Да, я в курсе того, что сначала Бекмамбетов хотел сделать как раз то, что Питер Джексон успел раньше. Но это как раз тот случай, когда «несчастье помогло»: вместо напрашивающегося, но уже использованного решения пришлось изобретать своё, которое оказалось куда более интересным и осмысленным.
Вообще говоря, существует прямая связь между европейским неомистицизмом XIX–XX веков (к языку и образам которого прибегают до сих пор) и тогдашними же научными кунштюками, вроде тех же «X-лучей». Тогда был настоящий бум всяких «таинственных излучений», от которых ждали всяких чудес.
Полагаю, что вышедший из Сумрака должен чувствовать себя примерно как человек, который отсидел ногу.
В книге Лукьяненко «Ночной Дозор» есть сцена, когда главный герой «собирает энергию радости» со всех встретившихся ему людей, не пренебрегая и выпивающими алкашами.
В этом смысле финальная реплика Егора из «Ночного Дозора», брошенная, так сказать, в лицо Свету — «а зато вы врёте» — имеет не ситуативный, а онтологический смысл. Светлые и впрямь должны быть склонны ко лжи, разумеется — благой. «Честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой» — это явно «светлая» идея.
Вполне реальные, кстати: колесо экономической катастрофы задавило многих. Начиная от «СБС-Агро» и кончая владельцами маленьких магазинчиков, которым как раз пришла фура с товаром, расплачиваться за который надо было зеленью или по курсу.
Есть даже термин JSF — Japanese Sciense Fiction, «японская научная фантастика». Русская (русскоязычная) научная фантастика, по идее, должна была бы назваться «рунфа» или типа того, но мы, по непонятной и глупой скромности, не любим и не умеем называть своё своими именами.
Надо сказать, что Хоси — первый японский фантаст вообще. Рассказ был написан в 1951 году и был одним из первых японских фантастических рассказов. Всего он написал за жизнь более тысячи крохотных, но совершенных миниатюр. Он же — первый президент Клуба японских писателей фантастов (впрочем, на этой должности он пробыл всего год).
Похоже, роман написан с сознательными аллюзиями на еврейскую историю: в частности, японское руководство, зная о грядущей гибели островов, осуществляет примерно то же, что евреи перед Исходом. Те, помнится, ограбили египтян, забрав у них «на малое время» ценные золотые украшения. Японцы же в романе поступают «зеркально наоборот»: продают уже обречённую территорию иностранцам. Иногда кажется, что «еврейство» как тема вообще как-то особенно близка японцам (я чуть было не написал — «и может стать их национальной идеей», но это было бы уже перебором). Высокий уровень антисемитизма в стране, где «своих» евреев практически нет, это только подтверждает.
Важно, конечно, «кому именно» он чего-то там такое даёт, а кому недодаёт, но мы сейчас не об этом.
«Мастер и Маргарита» играла в интеллигентском сознании роль, сравнимую с ролью Нового Завета для верующего христианина — а именно, источника морально-этических норм, духовного руководства в жизни, а зачастую и «духовного утешения» в скорбях. Несмотря на всю двусмысленность этой книги, она, скорее всего, останется столь же значимой и для будущих поколений интеллигентов — если уж не в качестве НЗ, то, по крайней мере, как значимый ориентир. Интересно отметить, что аббревиатуру НЗ сейчас присвоил себе элитный интеллигентский журнал «Неприкосновенный Запас». Не надо думать, что это случайно: журнал вполне осознанно претендует на роль «священной книги», своего рода «третьего завета» бывшей советской интеллигенции — той самой, воспитанной на Булгакове.
Читать дальше