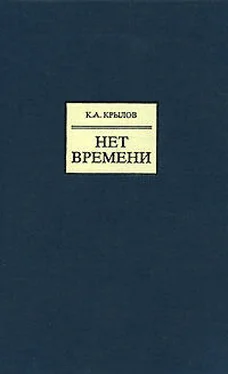Я имею в виду героя гайдаевских комедий, построенных на столкновениях карикатурного «очкастого интеллигента» с социальной и/или национальной архаикой, из которых он обычно выходит победителем. Эти фильмы имеют поколенческий смысл: новая генерация советских людей нуждалась в самоутверждении — в условиях, когда создание нового героического мифа было невозможно по идеологическим причинам, а старые (мифы Революции и Войны) стали неотчуждаемой собственностью старших. Отсюда и потребность в осмеянии и унижении «отцов», которую Гайдай и удовлетворил, получив за это свою толику славы. Чтобы было понятно, приведу два примера. В популярной в те годы миниатюре про «пятнадцать суток» очкастый Шурик порет — по голому заду, прутом — комического алкоголика и тунеядца «Федю», который его третировал (точнее, пытался третировать) на протяжении всего фильма. Формально — это обычный «Том и Джерри», только сыгранный живыми актёрами. Но, в отличие от американского «картона», здесь очень важен возраст персонажей. «Федя» годится «Шурику» в отцы. Более того, если учесть время действия, «Федя» не мог не воевать. «Шурик» сечёт по голой заднице фронтовика . Аналогичную процедуру ритуального осмеяния Гайдай попытался произвести и над национальной архаикой. Я имею в виду «Кавказскую пленницу», где Шурик стреляет солью в жопу не просто «плохому человеку, нарушителю социалистической законности», а адату, традиционным горским обычаям. Тогда это казалось смешным. Но не сейчас, когда сыны Кавказа плотно уселись на русскую шею, а всяческий дикарский «адат-шариат» и прочие «законы гор» стали настоящими законами не только на Кавказе, но и в Москве.
Причём не простой, а статусной: именно в Алма-Ату отправляли советскую творческую интеллигенцию: особых производств там не было, зато писалась музыка, рисовались картины и снимались фильмы; туда эвакуировали «Мосфильм» и «Ленфильм», так что во время войны 80 % советского кино снималось в этом благословенном краю (включая такие хиты, как «Иван Грозный»). Так что тема «мартеновских печей» в алма-атинском контексте приобретала интересное дополнительное измерение.
Впрочем, Францию он любил в основном как предмет изучения.
Элиас довольно широко использует фрейдовский аппарат, например, говорит о «супер-эго», регулирующем аффекты, но никогда не заходит в его использовании слишком далеко.
О чём свидетельствует само слово «это» в значении «всё, связанное с сексуальной проблематикой».
Современные системы власти можно определить не как «власть многих» (или, тем паче, «большинства»), а как «власть никого», «власть того, что меньше единицы», власть анонимных сил (поскольку и «рынок», и «государственный аппарат» — это именно анонимные силы).
Но не давать им понять, что ты это заметил. Одно из самых странных, на первый взгляд, правил вежливости — это требование, согласно которому следует игнорировать проявления чужой невежливости, но вести им счёт и подвергать остракизму или иным наказаниям преступающих правила приличия. Зато это становится понятным, если воспринимать вежливость как гипертрофированную осторожность.
Не случайно первые «знаки» в привычном нам смысле этого слова тесно связаны с гадательными практиками. Это, впрочем, выходит далеко за пределы нашей темы.
Одним из первых эту оппозицию обозначил Кант, который в 1784 году писал, что идея нравственности принадлежит культуре, манеры же и внешние приличия обозначает «всего лишь» цивилизацию. То был укол именно в эту точку.
Логически, но не обязательно — фактически. Шпенглер, помещающий «цивилизацию» после «культуры», как стадию упадка-после-расцвета, тоже не противоречит немецким представлениям о предмете: события во времени могут (и даже должны) идти «в иной последовательности». Хайдеггер, говоря, что «последнее по времени является изначальным», даже несколько упрощает картину.
Воспоминание по ходу. Маркс в ответ на вопрос «кто должен чистить сапоги при социализме?» ответил вопрошавшему — «а вот вы и будете чистить!». Подразумевалось, что при социализме сапоги чистить не будет никто, за неимением в том нужды. Коммунизм мыслился им как «чистая культура», где всего грубого и неотёсанного просто не существует. Поэтому, кстати, там не может быть и «грубых потребностей».
Читать дальше