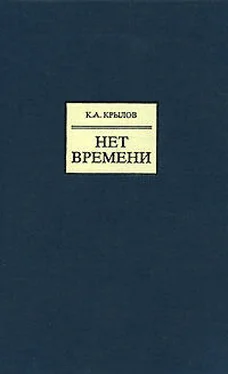На этом, правда, советская культура и спалилась. Если «банка тёмного стекла» ещё была каким-никаким «явлением духовной жизни», то та же самая банка в ларьке быть таковым решительно отказывалась. Вещи стали значить то, что они и должны значить: объекты потребления и ёмкости для их хранения. Все дела.
4
И какова же мораль всей этой истории?
Нет, я отнюдь не собираюсь обличать «вещизм» советских людей, издеваться над несчастной банкой из-под пива и сияющим инопланетным магазином, набитым чем-то там сверкающим и переливающимся. Совсем даже наоборот.
Существует известная закономерность: если человеку не хватает всего, он ещё может это пережить. Но если у него есть всё, кроме чего-то одного, он начинает думать, что это одно стоит всего того, что у него есть. При этом он, может быть, сможет достаточно долго игнорировать этот факт. Однако ему начнут сниться странные сны — всё о том, одном, чего ему не хватает. В обществе ту же самую функцию «снов» играет культура, особенно литература. В этом смысле она общественно-полезна: показывает, куда ветер дует.
Так что судьбу советской цивилизации можно было предсказать ещё в семидесятые — по книжкам Стругацких, если бы их тогда смогли внимательно прочесть. Правда, вряд ли это что-то изменило бы: революционное право первородства уже было разменяно (не на деле, так в мыслях) на чечевичную похлёбку, точнее — на гамбургер.
Тем не менее урок на будущее остаётся. То, что слишком яростно отвергается, в конце концов становится навязчивой идеей.
Есть такая невесёлая русскую сказка насчёт халявы. Русский народ, видите ли, не всегда её любил. Так вот, есть одна байка про то, чем кончается пользование «почти дармовым». Нет-нет, это не про попа и работника его Балду — это уже «литература». Это та самая, где звучит зловещая присказка: «Бери моё добро, да горе-злосчастье впридачу».
Похоже, именно это мы по глупости и сделали, накупив на Западе «сникерсни».
Газонокосильщик. На смерть Жака Деррида
Мыслить — это значит подтачивать ( entamer ) эпистему резцом своего письма.
Жак Деррида. «О грамматологии»
entamer la fermeté — подорвать стойкость
entamer le crédit — поколебать веру
entamer la réputation — подмочить репутацию
Французско-русский словарь
Итак, 9 октября 2004 года в Париже скончался Жак Деррида.
Смерть человека, понимавшего мир и жизнь (собственную в том числе) как «текст», а «текст» как слоёный пирог из «подразумеваемого» разной степени пропечённости, должна была быть обозначена именно словом «скончался» — с очевидной отсылкой к «кончился» и дальнейшим разматыванием клубка аллюзий и аналогий, более или менее рискованных, вплоть до непристойных (мэтр разрешал, он и сам был «весёлый такой»). На том и покончим с этим: желающие проводить Дерриду по-дерридиански и без нас найдутся. Найдётся ведь какой-нибудь гуманитарий, философствуя надувным молотом, напишет про деконструкцию червями. И не то чтобы Деррида не заслуживал некоторого «постмодернизма», то бишь глумления, в том числе и посмертного, — но лучше оставить это дело профессионалам из числа его выучеников.
Хотелось бы избежать и другого: реактивности. Что говорить: людям, которым сам Деррида и всё с ним связанное, было глубоко чуждо и отвратительно (это я и про себя тоже), смерть апостола «постмодерна» может показаться хорошим поводом от этого самого откреститься, хотя бы самим тоном. То есть написать: «вот, постмодернизм умер, наступает эпоха» — дальше по вкусу… ну, скажем, «новой искренности и новой серьёзности». Или «новой традиционности». Или осетринки с хреном.
А вот хрена вам. Постмодернизм не умер. Умереть может живое, а постмодернизм был «носферату» с самого начала. Возможно, сам Деррида плюс ещё несколько официальных «отцов-основателей», были тем живым началом, что ещё придавало голему некоторую уязвимость. В крайнем случае можно было сослаться на мнение мэтра (он сам, впрочем, таких ситуаций тщательно избегал). Теперь же, когда Деррида умер, машинка «деконструкции» зажужжит ещё веселее. Газонокосилка мысли уже скосила мозги парочке поколений, тем самым доказав свою эффективность. «Чего ещё надо».
Однако сам проектировщик газонокосилки всё-таки заслуживает некоторого внимания.
Жак Деррида был профессиональным маргиналом — то есть человеком, рождённым на краю пространств и умеющим (и любящим) удобно устраиваться на разного рода краешках. Он родился 15 июля 1930 г. в Алжире, в Эль Биаре, в еврейской семье. Обе эти позиции в тридцатом году были одновременно маргинальными и комфортными. Положение изменилось в сороковом, когда правительство Виши, поддавшись требованиям Гитлера, начало вводить законы, ограничивающие права евреев. Пострадал и десятилетний Жак Деррида. По его словам, его исключили из школы: «Учителя нам сказали: «Идите домой, ваши родители всё объяснят». Дети на улицах кидали в нас камни и кричали вдогонку: «Грязные евреи!». Этот случай навсегда оставил отпечаток в моей жизни, и я всегда выступаю против проявления антисемитизма и расизма». Впоследствии философ отомстил фашистам как подобает интеллектуалу: став знаменитым, Деррида активнейшим образом участвовал в дискурсивном обслуживании «деколонизации» — например, в Южной Африке (родной Алжир к тому времени был уже зачищен от французов и их детей). Деррида также очень сильно поспособствовал внедрению во Франции риторики и практики «мультикультурализма», благодаря чему Париж сейчас превращается в «цветной» город… Само собой разумеется, Деррида поддерживал также восточноевропейских диссидентов, а в 1982 году даже провёл несколько дней в пражской тюрьме. Впрочем, Деррида, как последовательный мыслитель (а он был по-своему последователен), подвергал критике и самое Америку. Правда, критике не слишком болезненной и больше смахивающей на оздоровительный массаж языком, но всё-таки. А одна из последних статей Дерриды (написанная в соавторстве с Хабермасом) — это гимн единой Европе.
Читать дальше