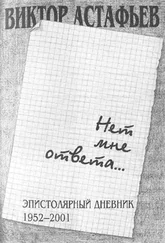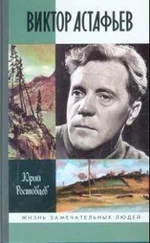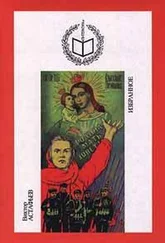Мы жаждали Твардовского, Залыгина, Макарова, и они являлись в нашу творческую жизнь. А вот почитал «круглые» и всякие прочие столы, за которыми беседовали современные молодые, но уже сплошь бородатые таланты и никакой почтительности к старшим там не обнаружил. Нынешние молодые, за малым исключением, сами себе и Твардовские, и Залыгины. Все-то они знают, умеют, все «прошли», утомлены новациями, мятежностыо духа и разрешением внутренних противоречий. Кажется, дай им вместо творческого общения побольше изданий, повыше гонорар, дачу от литфонда и машину от Союза писателей, как тут же и прекратится их «творческий поиск», иссякнут мольбы о помощи, в последнее время перешедшие в хоровое нытье.
И у Залыгина, и у нас, ныне шестидесятилетних, ориентиры были иные, вот в чем дело. Мы все, и старшие, и младшие помнили, какие гиганты, какая могучая русская культура стоят за нами. Робели ее и ощущали голодную потребность приобщения к ней, хотя и понимали, что время, пусть и не по нашей вине, во многом уже упущено из-за войны, борьбы с послевоенной нуждой, жизненными передрягами, психозом мнимых побед на всех фронтах и массовым одичанием на почве «здоровой» патриотической подозрительности друг к другу. Начинать надо было с ликвидации элементарной неграмотности, невежества, закостенелости привычек слушаться, слушать и верить всему, что слышишь, идти, куда прикажут, делать, что повелят. Мы нуждались в здоровом, твердом и честном авторитете, искали его среди действующих вокруг нас старших товарищей и если находили жемчужинку в назьме, то молились на нее, старались на доверие ответить доверием, на привязанность привязанностью, на добро добром, и не подсчитывали, в чем он, старший товарищ, превосходит, допустим, меня, в чем я его.
Был и у Сергея Павловича ориентир — крепкая, полнокровная и бурная молодая литература сибиряков двадцатых-тридцатых годов, сплошь почти погубленная в черные годы сталинщины. В той сибирской литартели величина первая — Владимир Зазубрин, легендарная личность, автор первого советского романа «Два мира», редактор журнала «Сибирские огни», затем московского журнала «Колхозник». Могучий телом и духом, красавец, богатырь, главами читал он русскую классику по памяти, в особенности Льва Толстого. Зазубрин воистину, как маяк в безбрежном море, притягивал к себе и собою талантливых, дерзких людей, и быстро объединил творческие силы Сибири вокруг журнала «Сибирские огни».
Я иногда думаю, какого облика существо предавало и губило таких богатырей, как Зазубрин? И почти с уверенностью могу обрисовать его: малорослая, редкозубая, недоношенная, умственно отсталая тварь, стремящаяся уподобить себе всех людей, сделать мир на себя похожим, вырубающая леса для того, чтоб сотворить на его месте чащу, дабы иметь подходящее для червя, тли, губителя-короеда сорную среду обитания и в изобилии гниль для жратвы.
Ни ростом, ни видом Сергей Павлович Залыгин против Зазубрина «не взял». Но это только с первого пригляда. Он по-сибирски крепок, хотя и тихоголос. Внутренние его «накопления», чем ближе с ним соприкасаешься и глубже узнаешь, поразительны, редкостная по нынешним временам, истинная, без жеманства, скромность постоянна и память, блистательная память! Никогда я не слышал, чтоб Залыгин говорил о себе и о своих книгах, тем паче возносил бы себя. Наоборот. Потихонечку, полегонечку «подъедет» к тебе, надо так и похвалит, слегка, все, чем ты живешь и дышишь, выведает и, не любопытства для, а по делу — будучи в «Новом мире» главным редактором, обязательно и новую твою рукопись за журналом «застолбит». Спросишь: «Над чем сам-то работаешь?» «Да так, — махнет рукою, — делаю одну штуку…»
Однажды на выездном секретариате в Архангельске, Залыгин делал доклад о литературе и два с лишним часа говорил без бумаг, цитируя целыми страницами Толстого, Достоевского и боготворимого им Чехова. «Ну ты даешь! — восхитился я в перерыве, — ты же вынуждаешь и нас, выступающих, говорить своими словами, а мы отвыкли от этого, не могём и не хотим публично показывать „глупость свою“».
«Ты знаешь, привычка, — перевел все в шутливую плоскость Сергей Павлович. — Я когда в Омском сельхозинституте преподавал, часов много, и аудиторий много — не запомнишь всего, чего и где ты говорил, так вот я и хитрил: все равно, думаю, из сорока-пятидесяти человек хоть двое-трое да слушали, и ну с попреками к студентам, не слушали, мол, мою лекцию-то, не запомнили даже, на чем я тогда остановился. А мне в ответ; „Ну как же это не запомнили?!“ — ниточку мне дадут, я ухвачусь за нее и пошел дальше шпарить…»
Читать дальше