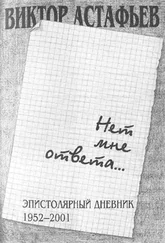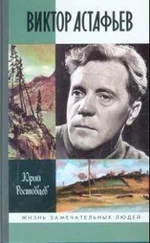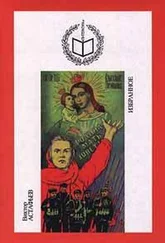Так и я, имеющий местную «биографию» оперы «Балм-аскарад», конечно же, воспринимал ее по-своему, хотя и слушал ее вместе с публикой, до отказа заполнившей зал на премьере, я и не могу быть объективным в рассуждениях о постановке. Специалисты пусть порассуждают об этом, в том числе и музыковеды, я заранее знаю, что они будут настроены скептически к спектаклю оттого, что поставил его «не наш» человек, да еще из столицы, да еще из драмы. Для меня же Верди, его оперы, в особенности «Реквием», — выше и дальше меня, это уже часть меня, состояние моей души, а может, и состав крови, и мое состояние не должно и не может совпадать с мнением остальной публики о состоявшейся премьере, в том числе и с оценками специалистов-музыковедов. Вот я слышу почти в каждой картине двигающейся к развязке трагедии раскаты «Реквиема», на мой взгляд, одного из величайших творений человеческих в музыке. Но еще не истерзали композитора мнимые и грядущие земные драмы, в «Бал-маскараде» он еще нерешителен и робок в прикосновении к вечному вопросу, терзающему человека, — что такое жизнь и смерть, однако уже весь он в предчувствиях мук, страданий, от страстей человеческих, предугадывания бед содрогается и рвется на части его нежное и могучее сердце.
Верди неиссякаем. В его операх почти нет речитативов или затянувшихся музыкальных пауз, преодолевая которые устаешь порой ждать «ударных» арий и двух-трех дуэтов в операх других, особенно современных, композиторов. У него от начала до конца, хотя бы в том же «Бал-маскараде», поют, не повторяя мелодии, не затягивают паузы. Его оперы — это беспрерывно, звонко, чаще бурно текущий ручей. Думаю, что слушать Верди можно и с закрытыми глазами, но каково-то его петь? Я не говорю о трудностях пения в опере вообще, легче плясать в какой-нибудь бандгруппе — там и голос, и слух не обязательны, были бы волосья подлинней да нечесанней. Я говорю о радостях и муках соприкосновения с великим искусством.
Мне думается, поставив Верди, да еще так редко исполнявшуюся оперу, красноярцы преодолели какой-то довольно трудный и важный этап в своей жизни и работе. Поклонимся им за это и пожелаем новых преодолений в служении красоте и добру, в воспитании истинного вкуса у людей, в первую очередь у молодежи, которая, кажется, не вся еще отравлена и затравлена современной масскультурой.
А облаков живых я так и не увидел в нынешнем «Бал-маскараде», лишь в сцене на кладбище, на мой взгляд, наиболее убедительно и хорошо поставленной, слегка поклубился туман, да и тот скоро иссякнул. Но для меня до конца дней моих останутся вечно живые облака великого искусства, которые я давным-давно, кажется, в другой уже жизни, увидел однажды на сцене театра и до сих пор не перестаю удивляться им и восхищаться ими.
Обращение к строителям, помещенное в трехтомном издании современной литературы (Хабаровск, библиотека «Мужество», 1977)
Так случилось, что в жизни своей мне довелось больше разрушать, чем строить, — я и воевал в гаубичной бригаде разрушения! Бывал на лесозаготовках, на сплаве, на разных работах, но все как-то вдалеке, иль, точнее, в стороне от строителей…
Но с детства любил смотреть, как пилят тес, как возводят стены, как «из ничего» возникает чудо, сотворенное человеческими руками, — дом!
Мне немало лет, я уже много видел на этом свете, синхрофазотрон и синхроциклотрон видел, даже аппараты по расчленению клетки, даже нанесенные на одну пластинку в ладонь величиной кибернетическим способом телевизор и радиоприемник, а в детстве, как говорится, тележного скрипу боялся. Но запах свежих стружек, мякоть опилок под голыми ногами, гладь оконных подушек, переплеты рам и пустота набровников, в которых, когда их забьют мохом, непременно поселятся воробьи, то есть обыкновенный дом для меня будет вечным и неизменным чудом!
После войны мне и самому довелось «возводить дом» из старых бревен, досок, ржавого железа и битых кирпичей, собирать халупу, ибо с жильем было туго и нам с женою, вернувшимся с войны, попросту негде было жить.
Я рано ушел на войну, жена и того раньше, мы мало чего умели, но, уцелев на войне, жили жадно, радуясь Прежде всего самой возможности, счастью жить, которого так многие лишились. «Свой дом» я строил после работы и колотил молотком чаще по «плотнику», то есть по руке, чем по гвоздю, после чего следовали громкие высказывания, от которых даже вороны отлетали вверх, и теща моя, человек тихий, добрый, вырастившая девятерых детей и всего, как говорится, изведавшая, когда ее спросили, что-де за мужичонка на пустыре строится, больно, мол, уж «боевые» у него выражения… постеснялась признаться, что это ее милый зять, и тихо удалилась.
Читать дальше