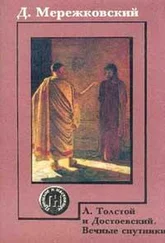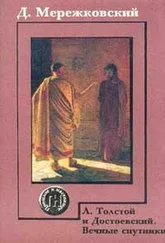Дмитрий Мережковский - Лица
Здесь есть возможность читать онлайн «Дмитрий Мережковский - Лица» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Публицистика, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Лица
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Лица: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Лица»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Лица — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Лица», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
В том же Кодексе находится другой рисунок: на дворе арсенала рой нагих рабочих, похожих на демонов, подымает огромную пушку с грознозияющим жерлом, напрягая могучие мышцы, с неимоверным усильем цепляясь, упираясь ногами и руками в рычаги исполинского ворота, соединенного канатами с подъемной машиной; другие подкатывают ось на двух колесах. Ужасом веет от этих висящих гроздий голых тел: это кажется оружейной палатой дьяволов, кузницей ада или заводом Круппа.
Кто же он сам — пророк вечного мира или вечной войны? И кто для него Первый Двигатель — Бог любви или тот стальной паук с окровавленными лапами? Что для него последняя сущность мира — любовь или ненависть, Бог или дьявол, или ни то, ни другое, а — страшно сказать — ничто?
В твоем «ничто» я все найти надеюсь, — не мог ли бы и он ответить, как Гете-Фауст отвечает своему двойнику, Мефистофелю?
«Веришь ли ты в Бога?» — спрашивает Гретхен Фауста, и тот отвечает ей надвое: «Кто посмел бы сказать: „верю или не верю?“. Называй Его как хочешь… У меня нет для Него имени. Имя — звук пустой».
А имя Христа тоже «звук пустой»?
Ты — не христианин, —
решает Гретхен о Фаусте; кажется, так же могла бы она решить о самом Гете; так же могли бы и мы решить о Леонардо.
В конце книги моей, ученик Леонардо, Джиованни Бельтраффио, рассказывает ему о двойнике его, явившемся ему, Бельтраффио, в горячечном бреду:
«— Он говорил мне, будто бы все в мире — одна механика; все — как этот страшный стальной паук, с вертящимися лапами, который вы изобрели… И еще говорил он, будто бы то самое, что люди называют „Богом“, есть вечная сила, которою движется тот страшный Паук, и что Ему все равно, ложь или истина, зло или добро, жизнь или смерть; и нельзя Его умолить, потому что Он — как математика: дважды два не может быть пять. Он говорил, что и Христос напрасно пришел — умер и не воскрес, истлел в гробу. И когда он это сказал, я заплакал. И он меня пожалел и сказал: „Не плачь, мальчик мой бедный, нет Христа, но есть любовь, великая любовь — дочь великого познания: кто знает все, тот любит все. Прежде была любовь от слабости, чуда и незнания, а теперь — от силы, истины и познания, ибо Змий не солгал: вкусите от Древа познания, и будете, как боги“».
Верь только этому древнему слову и
бабушке моей, Змее,
И когда-нибудь сам богоподобья
своего испугаешься,
не мог ли бы прибавить к словам двойника Леонарда Фаустов, а может быть, и Гетев двойник, Мефистофель?
Все это и значит: существо мира для Леонардо — ни зло, ни добро, ни Бог, ни дьявол, ни свет, ни тьма, а что-то между ними среднее, мерцающее, двойственное, подобное той «светотени» chiaroscuro, которую он так любил, которой так соблазнялся и других соблазнял.
«Человек с двоящимися мыслями не тверд на всех путях своих» (Иак. 1, 8) — этим словом Писания лучше всего объясняются судьбы двух ангелов или демонов европейской культуры, Винчи и Гете. Есть для них и у Данте слово глубины неисследимой:
Ангелы, которые не были мятежны
Ни покорны Богу, но были сами за себя.
Angeli che non furono ribelli,
Ne pur fideli a Dio, ma per se foro.
В то время, как сатана боролся с Богом, среди Ангелов были такие, которые, не желая примкнуть ни к Богу, ни к дьяволу, остались чуждыми Тому и другому, одинокими зрителями поединка; свободные и печальные духи, ни злые, ни добрые, ни темные, ни светлые, причастные злу и добру, тени и свету, изгнаны были Верховным Правосудием в земную долину, среднюю между небом и адом, в долину сумерек, той «светотени», chlaroscuro, которую так любил Леонардо.
Кажется иногда, что оба титана европейской культуры, Винчи и Гете, — такие сумеречные ангелы, не сделавшие выбора между Богом и дьяволом. А может быть, и мы все такие же?
«Знаю твои дела: ты ни холоден, ни горяч. О, если бы ты был холоден или горяч! Но, так как ты тепл… извергну тебя из уст моих» (Откр. III, 15–16).
Всем созерцающим, не делающим выбора, казнь — неутолимая жажда и невозможность действия, неугасимый внутреннего ада огонь.
«Отче Аврааме! умилосердись надо мною и пошли Лазаря, чтоб омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем» (Лк. 16, 25).
Чтобы понять эту казнь, стоит лишь сравнить Леонардо с Колумбом: мало знал, много верил, и сколько сделал этот: а тот много знал, верил мало и сравнительно с тем, что мог бы сделать, почти ничего не сделал.
Смерть Леонардо описана мною слабо, грубо и нечестиво. Ангельского хора над погибающим Фаустом и уж, конечно, над Леонардо я не услышал.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Лица»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Лица» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Лица» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.