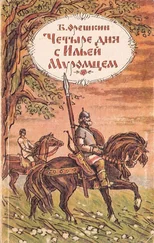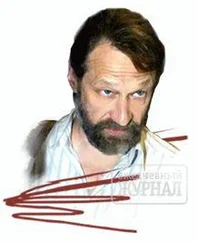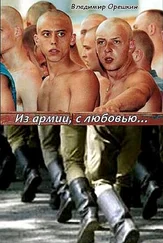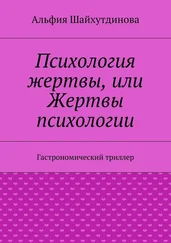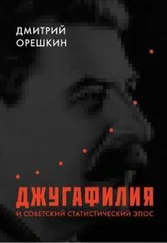Другим доводом в пользу авторской теории служат его личные впечатления от отдыха в Крыму, где от жары ему совсем не хотелось кушать. А на севере хотелось. То есть прокормить рабочую единицу в суровых российских условиях стоит дороже, чем в крымских, итальянских или, скажем, марокканских. Отсюда следуют смелые обобщения о принципиальной неконкурентоспособности отечественной промышленности и многое прочее, вплоть до благотворности изоляционизма и пользы принудительного труда. Весомости добавляет наблюдение автора о том, что блок НАТО занимает «плюсовое» температурное пространство, тогда как «предел распространения русского народа» совпадает с январской изотермой -6 градусов. И это тоже почти правда. Потому что правильно подмеченная Паршевым связь куда сложнее, чем ему представляется. Главное, ее характер быстро меняется со временем. Чему мы с вами прямые свидетели: с момента выхода книги граница НАТО заметно продвинулась на восток, наплевав на изотерму. Увы: климат климатом, а есть и гораздо более значимые факторы.
Вот бы и определить поточнее — какие?
Однако семьдесят лет нормальное научное обсуждение влияния климата на экономику и социальную жизнь в СССР было под строгим запретом. Академик К.К. Марков, корифей отечественной географии, говорил (но, конечно, не писал), что «нас замордовали географическим детерминизмом». «Детерминизмом», «географизмом», «вульгарным материализмом» и «метафизическим эмпиризмом» в сталинскую эпоху именовались попытки сделать ровно то, что во времена гласности легко творит правоверный сталинист Паршев: объяснить социально-экономические проблемы особенностями природной среды.
Об этом стоит сказать подробнее, потому что здесь просвечивает фундаментальное противоречие советского мышления. На уровне высокой теории в мире не было таких крепостей, которые советский народ под руководством ленинской партии… и т. п. А на уровне презренной практики тов. Сталин тоже был не прочь свалить свои промахи на объективные природные трудности. Если, конечно, не удавалось эти промахи вообще замолчать.
Примером та самая «мертвая дорога» на нестабильных многолетнемерзлых грунтах Заполярья. Специалисты понимали, что авантюра, но помалкивали в тряпочку. Дабы не оказаться с киркой среди первопроходцев. Когда же мерзлота и тяготы экстремального строительства все-таки оказались сильней, про дорогу дружно забыли — по тем же самым причинам. Советская власть двинулась далее от победы к победе, оставив косточки зэков-первопроходцев безвестно гнить рядом с брошенными рельсами.
Первая задача постсоветского патриота этих шитых белыми нитками хитростей не замечать. Он ее ревностно выполняет. Но одновременно — опять же из патриотических соображений — затевает разговор о мерзком характере русского климата. Отчего нитки только сильней бросаются в глаза.
В апрельском докладе 1929 г. «О правом уклоне в ВКП(б)» т. Сталин отмечает, что после 1927 г. кулак перестал «давать хлеб в порядке самотека». И уверенно объясняет это классовым усилением кулака после «ряда урожайных годов» (странным образом совпавших с эпохой НЭПа). Забыв, правда, упомянуть, что сам же ввел фиксированные закупочные цены и запретил свободную продажу хлеба. То есть пресек рыночный «самотек» и «смешные надежды на то, что можно взять хлеб у кулака добровольно». А через год получил «…падение посевных площадей зерновых культур… Объясняется это падение не деградацией зернового хозяйства, как болтали об этом невежды из правых оппортунистов, а гибелью озимых посевов в размере 7 700 тыс. га (20 % озимых посевов по СССР…». Это уже цитата из сталинского Отчета ЦК шестнадцатому Съезду ВКП(б) в июне-июле 1930 г.
Вот и пойми его. Атака на кулака аргументируется чисто классовыми резонами («или они, или мы»), а полученное после нее снижение посевов на 20 % и падение доли товарного зерна до 37 % от уровня 1913 г. — уже сугубо климатическими. Диалектика!

Вот тут бы и взвесить диалектически — что важней. Но после печального опыта правых оппортунистов Рыкова и Бухарина как-то не нашлось желающих. В результате климатические неурядицы растянулись еще на четыре кромешных года и унесли то ли пять, то ли десять миллионов крестьянских жизней: точно никто не знает. Иные фальсификаторы истории сегодня называют это климатическое явление «голодомором». А Черчилль, тот вообще дошел до того, что, напившись грузинского вина у гостеприимного хозяина в Москве осенью 1942 г., прямо спросил про социальную цену коллективизации. Сталин — пишет британский премьер — поднял руки с растопыренными пальцами: «Десять миллионов… Это было ужасно. Но абсолютно необходимо».
Читать дальше