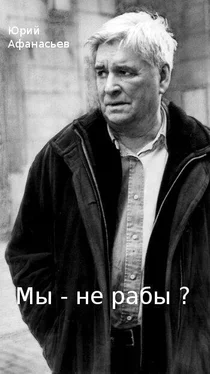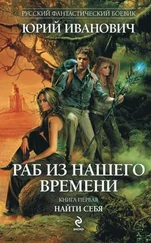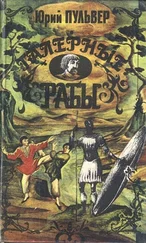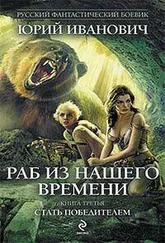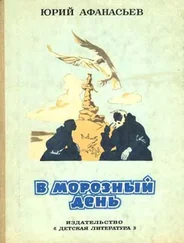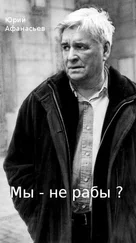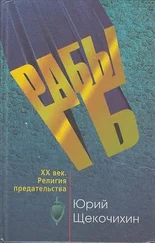— Товарищ Хрущев, хватит ли у нас мужества сказать правду? — спросил Аристов.
— Чтобы не быть дураками , — Булганин призвал сказать партии всю правду о Сталине.
Подводя итоги прениям, Хрущев сказал:
— Сталин партию уничтожил. Не марксист он. Все святое стер, что есть в человеке. Все своим капризам подчинял … Надо наметить линию — отвести Сталину свое место, почистить плакаты, литературу. Взять Маркса — Ленина. Усилить обстрел культа личности.
Вникая сегодня в эти реплики, не хочется даже рассуждать о тех смыслах, которые в них, хоть и не без труда, но все-таки весьма отчетливо прочитываются. Поражает интеллектуальный уровень высших руководителей страны. Поражает, но не удивляет. Столь примитивный уровень обсуждения ситуации, сложившейся в такой огромной стране, свидетельствует о той степени интеллектуальной и нравственной деградации, которая стала возможной вследствие плебеизации общества (включая его так называемую элиту) после 1917 года.
Уже сам текст доклада Хрущева на ХХ съезде с научной точки зрения годился разве что как учебное пособие по психоанализу. Заметьте: в названии доклада слово «культ» есть, а Сталина — нет. Даже произнести вслух его имя в самой заявке на тему «мужественному», но тоже пораженному религиозностью по-советски Хрущеву духу не хватило. Как будто его неукоснительно преследовало некое не осознаваемое им самим заклинание. Первый секретарь ЦК КПСС тоже оставался всецело традиционалистом, пускай и традиционалистом уже более продвинутого, «рефлективного», «идеологизированного» типа все того же способа мышления. Даже в тех случаях, когда Хрущев касался, в сущности, наиболее важных проявлений традиционализма, — таких, например, как моноцентризм, авторитаризм, — или вещал о канонизации, сакрализации традиции, он о них не говорил, а проговаривался совсем другими словами. О самом же культе в наиболее обобщенной характеристике доклад утверждал лишь, что он « превратился на определенном этапе в источник целого ряда крупнейших и весьма тяжелых извращений партийных принципов, партийной демократии, революционной законности ». Это и есть, на мой взгляд, не что иное, как воплощенная паранойя.
То есть проблемы в интересующей нас логической связи: «Сталин — состояние общества — сталинизм», — для Хрущева не существовало и не могло существовать вообще.
В ходе бурного обсуждения доклада во всех партийных организациях (а это по тем временам — 7,2 млн человек) кипели страсти, как и положено в таких случаях, преобладали и всё захлестывали эмоции. И ничего, что хотя бы отдаленно напоминало прояснение коллективного сознания и уж, тем более, сотрясение оснований Системы, конечно, быть не могло.
Система, породившая «культ» и получившая потом название «сталинизм», в докладе Хрущева даже не упоминалась никаким боком и, опять же, по той простой причине, что сталинизм как систему не могли представить себе тогда ни лично Хрущев, ни массовое сознание.
А когда в ходе обсуждения доклада отдельные люди начинали все-таки прозревать и о ней говорить, та же самая Система всем своим «нутром» — пускай снова на уровне интуиции, инстинктом самосохранения — сразу же улавливала угрозу своему существованию. И сурово карала таких «отщепенцев» только за то, что они хоть что-то свое произносили вслух — да еще не с трибуны, а где-то по кухням, по университетским закоулкам или на сеновалах во время выездов на работы в колхоз. Карала жестоко — пятнадцатью годами лагерей с последующим лишением права прописки в Москве и в крупных городах. Упомяну, например, знаменитое «дело Краснопевцева» на истфаке МГУ, участником которого мог бы стать и сам, окажись я тогда в Москве, а не в Красноярске, куда я на тот момент уехал по распределению.
Что сказать про такое всенародное обсуждение? Что здесь было важнее — единичные прозрения в среде в целом все еще заколдованной общественности или же незамедлительная репрессивная реакция на них все той же, столь же традиционно, как и раньше, ощущающей себя сталинской Системы?
Скорее всего, важным было и то и другое. В любом случае, доклад Хрущева «О культе личности и его последствиях» и особенно его широкое обсуждение в массах превратились все-таки в событие, и именно данное событие — или, лучше сказать, явление — вместе с самим «культом», действительно, не остались без последствий для населения Советского Союза. Напротив, последствия оказались настолько грандиозными, что сам докладчик, вынесший слово «последствия» в название своего доклада, не мог не то чтобы сформулировать их в качестве возможных, — он не мог, опять же, даже их помыслить. Впрочем, не смогли такие последствия помыслить и почти все десятки миллионов людей, которые приняли участие в обсуждении самого «культа» и доклада со словом «последствия» в названии.
Читать дальше