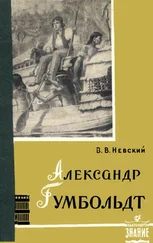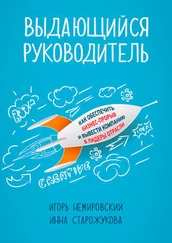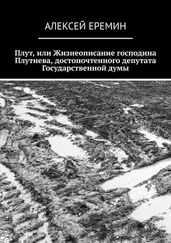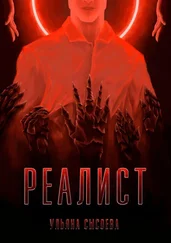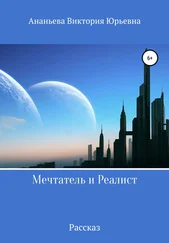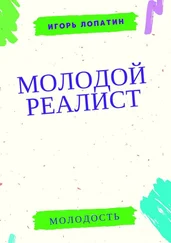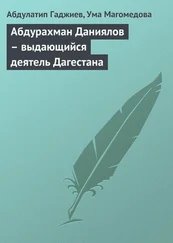М Еремин - Выдающийся реалист
Здесь есть возможность читать онлайн «М Еремин - Выдающийся реалист» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Публицистика, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Выдающийся реалист
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Выдающийся реалист: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Выдающийся реалист»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Выдающийся реалист — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Выдающийся реалист», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
______________
* Н.Г.Чернышевский. Полн. собр. соч., т. IV, М., 1948, стр. 569.
"В своей критической статье о Гоголе, - писал великий критик, - г. Писемский выражал мнение, что талант Гоголя чужд лиризма. Про Гоголя, как нам кажется, этого оказать нельзя, но, кажется нам, в таланте самого г. Писемского отсутствие лиризма составляет самую резкую черту. Он редко говорит о чем-нибудь с жаром, над порывами чувства у него постоянно преобладает спокойный, так называемый эпический тон... Нам кажется, что у г. Писемского отсутствие лиризма скорее составляет достоинство, нежели недостаток; нам кажется, что хладнокровный рассказ его действует на читателя очень живо и сильно, и потому полагаем, что это спокойствие есть сдержанность силы, а не слабость. Правда, некоторые из наших критиков, обманываясь этим спокойствием, говорили, что г. Писемский равнодушен к своим лицам, не делает между ними никакой разницы, что в его произведениях нет любви и т.д. - но это совершенная ошибка... На чьей стороне горячее сочувствие автора, вы ни разу не усомнитесь, перечитывая все произведения г. Писемского. Но чувство у него выражается не лирическими отступлениями, а смыслом целого произведения. Он излагает дело с видимым бесстрастием докладчика, - но равнодушный тон докладчика вовсе не доказывает, чтобы он не желал решения в пользу той или другой стороны, напротив, весь доклад так составлен, что решение должно склониться в пользу той стороны, которая кажется правою докладчику"*.
______________
* Н.Г.Чернышевский. Полн. собр. соч., т. IV, М., 1948, стр. 570-571.
Стало быть, для того, чтобы понять, какая сторона кажется правою докладчику, необходимо понять, как составлен "доклад". Но для этого необходимо прежде всего знать, о чем "доклад", то есть какова тема тех произведений Писемского, о которых писал Чернышевский. На этот вопрос Писемский однажды ответил сам с присущей ему выразительностью.
Приблизительно за год до того, как была напечатана статья Чернышевского, Писемский, совершавший тогда по заданию морского министра своеобразную литературно-этнографическую поездку вдоль побережья Каспийского моря, в одном из писем к жене сообщил такую подробность: "На всем этом пространстве меня более всего заинтересовали бакланы, черная птица, вроде нашей утки, которые по рассказам находятся в услужении у пеликанов... Пеликан сам не может ловить рыбу, и это для него делает баклан, подгоняя ему рыбу, иногда даже кладя ему ее в рот, засовывая ему при этом в пасть свою собственную голову. Чем вознаграждают их за эти услуги пеликаны неизвестно! Кажется, ничем! Очень верное изображение человеческого общества"*.
______________
* А.Ф.Писемский. Письма, М.-Л., 1936, стр. 95.
Писемский еще раз поставил здесь вопрос, который волновал его всю жизнь: в чем смысл существования целого класса людей, живущих за счет чужого труда? Во времена Писемского это был один из самых сложных вопросов, приковывавших внимание всех лучших людей общества.
Русское дворянство, как и всякий эксплуататорский класс, создало целую систему "теорий", доказывающих необходимость и даже благодетельность своего существования. Православная церковь внушала массам безграмотного, забитого народа, что господин поставлен "от бога". Ученые идеологи возвеличивали дворянство как единственный просвещенный класс, насаждающий в отсталой России блага культуры и цивилизации, воздвигающий своими усилиями славу и мощь Российского государства.
Из поколения в поколение лучшие люди русского общества стремились вскрыть лживость этих "теорий". И в первых рядах борцов против дворянской идеологии всегда шли русские литераторы.
Еще в XVIII столетии Новиков, Фонвизин, молодой Крылов пришли к мысли о том, что существует тесная связь между дворянской дикостью и развращенностью и дворянским бытием за счет труда крепостных. И все-таки даже этим писателям казалось, что жизнь за счет труда крепостных развращает только необразованных, непросвещенных помещиков. Как и многие люди того времени, они надеялись, что по мере распространения просвещения число добродетельных, гуманных помещиков будет неизменно увеличиваться, а следовательно, и участь народа будет облегчаться, а "злых" дворян будет все меньше и меньше.
Но не эта прекраснодушная вера определяла характер их произведений. Просвещенные, исполненные благороднейших мыслей и чувств Стародумы, Правдины и Милоны были все-таки исключением. Они терялись в тени таких массивных созданий, как Простаковы и Скотинины, которые воплощали в себе черты и нравы всей дворянской массы. Именно в этом и заключалась сила лучших произведений XVIII века.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Выдающийся реалист»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Выдающийся реалист» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Выдающийся реалист» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.