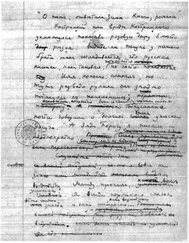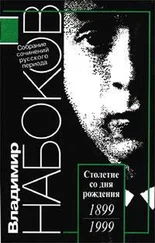THE SILENCE OF THE SEA AND OTHER ESSAYS. BY HILAIRE BELLOC. NEW YORK: SHEED & WARD. 253 PP. {11} 11 Впервые — New York Times Book Review. 1941. November 23, p.23, под заглавием «Belloc Essays — Mild But Pleasant».
«Невинность — это жемчужина, скрытое сокровище, редко извлекаемое на свет», — пишет г-н Беллок {12} 12 Беллок (Джозеф) Хилари (1870–1953) — писатель и историк англо-французского происхождения (уроженец острова Сен-Клод, Франция); в 1902 г. принял британское подданство; автор нескольких романов, сборников эссе и историко-биографических сочинений «Дантон» (1899). «Робеспьер» (1901), «Мария Антуанетта» (1909), «Кромвель» (1927) и др. ход коня — по всей вероятности, это образное выражение заимствовано у В. Шкловского, во многих работах 1920-х гг. (в том числе и в статьях, вошедших в сборник «Ход коня», 1923) разрабатывавшего теорию «остранения», преодоления автоматизации восприятия с помощью обновленных художественных средств. Данная реминисценция лишний раз подтверждает тот факт, что Набоков был знаком с работами формалистов и даже в какой-то степени разделял некоторые их теоретические положения. В лекции, посвященной роману Джейн Остен «Мэнсфилд-парк», Набоков использовал выражение «ход коня» в более узком значении: как «шахматный термин, обозначающий рывок в ту или другую сторону на черно-белой доске переживаний Фанни» (Лекции-1998. С.94). Правда, Набоков вовсе не был поклонником формалистов — и этого было бы странно ожидать от писателя, чьи творческие принципы формировались не без влияния эстетических воззрений В.Ф. Ходасевича. В шестидесятые годы, отвечая на письменный запрос переводчика Майкла Скэммела, Набоков отрезал: «То, что называют «формализмом», содержит черты, мне отвратительные» (Цит. по: Иностранная литература. 2000. № 7. С.278).
в своем последнем из сорока восьми небольших эссе, собранных в этой книге. Жемчужина иногда выглядит чуточку тускловатой, с легким молочным отливом, не обязательно опаловым; но в целом книга г-на Беллока произвела благоприятное впечатление на вашего доброжелательного обозревателя. Его стиль, в наиболее удачных местах, можно сравнить с тем оранжерейным окном, которое он описывает и которое представляет собой «прямоугольник, увенчанный квадратом», причем «высота прямоугольника равна диагонали квадрата над ним». Безусловно, исчерпывающая полнота совершенной пропорции является великим достоинством во всяком искусстве; но разве не должно что-то сказать и в пользу блистательного перебива, взрывной фразы, захватывающего отступления, хода коня? Этюды г-на Беллока — это, несомненно, сплошь слоны и ладьи; происхождение многих его мыслей слишком очевидно; принаряженная банальность то и дело грациозно кланяется читателю.
Некоторые из этих эссе (такие, как «О неудачнике» или «О шляпах») представляют для писателя слишком легкую задачу. Когда автор ищет «ясной» прозы и с грустью замечает, что сегодня «нам скучно описывать вещи такими, как они есть», он излагает общераспространенное мнение, которому вряд ли есть дело до писательского чувства правды; ибо где и в каком веке описывали вещи «как они есть»? Кроме того, когда г-н Беллок пытается выразить идею Постоянства, пространно рассуждая о «человеке, пашущем свое поле» (пока города превращаются в руины и зарастают маком), удручающее постоянство избитого образа (которого не могут спасти ни эти мои маки, ни ренановские) подмывает возразить, что человек никогда не бывает одним и тем же.
Беда г-на Беллока в том, что он пытается быть одновременно тривиальным и оригинальным, помещая на, так сказать, предметное стекло тончайший срез очевидного и разглядывая его в телескоп. В результате получается странная деформация, пример которой можно обнаружить (без особых усилий) в следующей неряшливой фразе: «(…) если молодой человек напишет два любовных письма и, отправляя их, перепутает адреса, каждый из получателей, вполне вероятно, воспримет свое послание как предназначенное ему или ей».
Г-н Беллок хорош (как я уже намекал), когда таскает сливы с пирога Клио (который она ест и который всегда в ее распоряжении, не так ли?) или когда (приношу извинения за все эти замечания в скобках, слишком уж заразителен стиль г-на Беллока) поэт в нем выражает многое малыми средствами. Как в такой, к примеру, фразе: «…на всех парусах корабль, эта слава Англии… эта башня парусины, многоэтажная и живая, кренясь, летит сквозь туман». Caressez la phrase: elle vous sourira [2] Ласкайте фразу: она вам улыбнется (фр.).
— как заметил более циничный писатель. А раз уж мы заговорили об улыбках, не могу не хмыкнуть, когда г-н Беллок принимается подмигивать: юмор у него скудный, шутки допотопные; и все же хотелось бы думать, что он не отказывает себе в удовольствии (наконец-то) от души позабавиться, когда с важностью утверждает, что «деспотия, чьи действия направляются тонким вкусом, способна избавить общества с иным политическим устройством от художественного хаоса». Или я ошибаюсь? Если ошибаюсь и он говорит это серьезно, о, тогда невозможно без дрожи представить себе страну, где правит кандидат г-на Беллока, идеальный критик, человек высокого ума, который вежливо, но безжалостно навязывает «закон красоты и величия» робким литературным поденщикам, школьникам, презренным гениям (и собственные его трагедии идут под гром оваций в громадном театре, им самим созданном)! Нет, уверен, что это обычный розыгрыш, поэтому, пожалуйста, давайте сохраним наш «художественный хаос», где всякая книга, хорошая или плохая, занимает свое место и имеет право на существование — и низкопробные романы, и Ветер, и Колокол, и Анна Ливия Плюрабель {13} 13 Ветер — имеется в виду роман Маргарет Митчел «Унесенные ветром» (1936). Колокол — то есть роман Эрнеста Хемингуэя «По ком звонит колокол» (1940). Анна Ливия Плюрабель — персонаж романа Джеймса Джойса «Поминки по Финнегану» (1940).
, и непритязательные эссе г-на Беллока.
Читать дальше