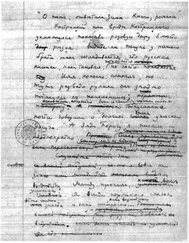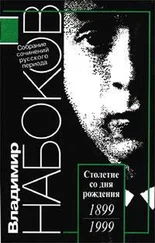Море грохочет, отступает с шорохом гальки, Хуан и его возлюбленная, молодая блудница — ее имя, говорят, Адора? она итальянка, румынка, ирландка? — спит у него на коленях, его складной цилиндр лежит подле нее, свеча трепетно горите жестяной кружке, рядом — завернутый в бумагу букет длинностебельных роз, его шелковый цилиндр на каменном полу, близ лоскутка лунного света, все это в углу обветшавшего, некогда дворцового великолепия борделя, Вилла Венера, на каменистом средиземноморском берегу, приоткрытая дверь позволяет увидеть то, что кажется залитой лунным светом галереей, но в реальности является полуразрушенной гостиной с обвалившейся внешней стеной, и через зияющий провал слышно обнаженное море, тяжело вздыхающее пространство, отделенное от времени, оно хмуро рокочет, хмуро отступает, волоча свой улов влажной гальки. {105}
Это я записал одним утром в самом конце 1965 года, за пару месяцев до того, как роман заструился. Выше я привел его первое биение, странное ядро, вокруг которого книге суждено было вырасти на протяжении трех последующих лет. Очевидно, что по окраске и освещению значительная часть книги отличается от проблеснувшей сцены, структурная центральность которой, однако, акцентирована с приятной точностью тем фактом, что теперь она существует как виньетка в самой середине романа (который назывался сначала «Вилла Венера», затем «Вины», затем «Страсть» и, наконец, «Ада»).
Возвращаясь к более обобщающим определениям, мы различим, что вдохновение сопутствует автору в его непосредственной работе над новой книгой. Оно (она — ибо теперь мы в обществе цветущей музы) сопровождает его посредством последовательных вспышек, к которым писатель становится настолько привычен, что даже случайная легкая помеха в домашнем освещении ранит его как предательство.
Один и тот же человек может сочинять части одного и того же рассказа или стихотворения в голове или на бумаге, с карандашом или ручкой в руке (говорят, существуют исполнители-виртуозы, которые ни много ни мало сразу печатают свое произведение или, что еще более невероятно, надиктовывают его, теплое и лепечущее, машинистке или диктофону!). Некоторые предпочитают ванну кабинету и кровать открытому ветрам болоту — во взаимоотношениях между мозгом и рукой, ставящих на нашем пути некоторые странные проблемы, место особой роли не играет. Как говорит где-то Джон Шейд: «Я поражен был разницей, что есть в двух способах созданья: первый вид внезапно ум поэта озарит слов шествием, и он, смятен подчас, намыливает ногу в третий раз. Другой, гораздо красочней, где он, закрыв дверь в кабинет, скрипит пером. А во втором мысль держится рукой, она одна ведет абстрактный бой. Перо повисло в воздухе, чтоб пав, перечеркнуть закат, звезду создав. И фраза слепо следует за ним на свет дневной через чернильный дым. Но первый вид — агония! И боль сжимает мозг как каскою стальной. В спецовке муза направляет дрель, и бурит, и усильем воли всей ее не перебить, а автомат с себя снимает то, что миг назад — надел, иль у ближайшего угла газету покупает, что читал. А почему? Возможно, потому, что без пера уздечки нет письму, одновременно три нужны руки, чтоб рифму нужную поймать в силки, готовую строку дать зреть глазам, и помнить весь предшествующий хлам? Ужель процесс сей глубже без стола, чтоб фальшь снести, вздымая паруса — поэзии? Таинственный есть миг, когда, сложив перо, мой дух поник, иду бродить, и по немой мольбе садится слово на руку ко мне» {106}.
Тут-то, конечно, и выступает на сцену вдохновение. Слова, которые за почти пятьдесят лет сочинения прозы, я по разным поводам сочинил и затем вычеркнул, должно быть образовали к настоящему времени, в Королевстве Отрицания (туманная, но не такая уж и невероятная земля к северу от ниоткуда), гигантскую библиотеку вымаранных фраз, характеризуемых и объединяемых только их тоской по милостивому кивку вдохновения.
Посему неудивительно, что писатель, не страшащийся признаться, что познал вдохновение, и способный с легкостью отличить его от пены подгонки, также как от унылого комфорта «верного слова», стремится найти яркие следы этого трепета в работах собратьев по перу. Молния вдохновения поражает сразу: вы наблюдаете эту вспышку в том или ином великом произведении литературы, будь то тонкая нить стихов, или абзац у Джойса или Толстого, или фраза в рассказе, или рывок гения в работе естествоиспытателя и даже в статье литературного критика. Я, естественно, подразумеваю не всем известных безнадежных писак — но людей, которые являются артистами в своем роде, как, например, Триллинг {107}(меня не интересуют его критические воззрения) или Тёрбер {108}(например, в «Голосах революции»: «Искусство не бежит к баррикадам»).
Читать дальше