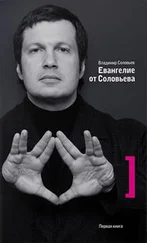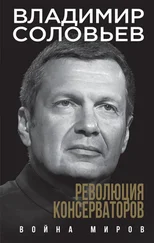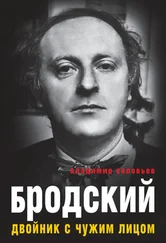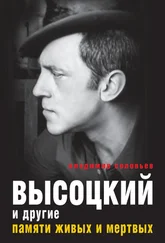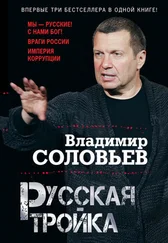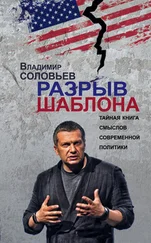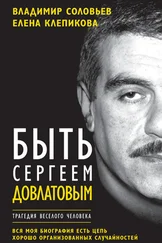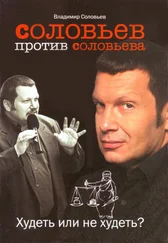_____________
{1} Трубецкой Е. Н. Миросозерцание Вл. Соловьева. М., 1913. Т. 1. С. 11-12.
14
статья Соловьева "О духовной власти в России" (1881), пафос которой состоял в утверждении, что русская православная церковь, подчиненная государственной власти, безжизненна и не имеет ни нравственного авторитета, ни общественного значения. Статья, вполне одобренная Аксаковым, вызвала недовольство церковных кругов и обер-прокурора Синода К. П. Победоносцева, который называл Соловьева не иначе как "безумный философ".
80-е годы были тем периодом жизни и творчества Соловьева, который принято называть "утопическим". Подразумевается, конечно, его теократическая утопия, его мечта о соединении всех христианских церквей и достижении идеала "вселенского" христианства. Об этом он впервые определенно писал в статье "Великий спор и христианская политика" (1883). Идея "вселенской теократии" овладела Соловьевым, и он задумал посвятить этому вопросу огромное сочинение, первую часть которого составила книга "История и будущность теократии", содержащая философию библейской истории. Духовная цензура запретила печатание книги в России, поэтому Соловьев совершил поездку в Загреб (Хорватия), где при содействии католического епископа И. Штроссмайера издал ее.
Многое из того, что Соловьев писал по религиозному и церковному вопросам, восходит к русским идейным спорам 1830-х -1840-х годов. Римско-католическая утопия напоминает воззрения Чаадаева периода создания цикла "Философических писем", а критика казенного православия часто почти дословно совпадает с высказываниями Хомякова и Ивана Аксакова. Эти работы принесли Соловьеву некоторую европейскую известность, сблизили его с католическими кругами и одновременно привели к разрыву с официальной Россией, поскольку путь к грядущей теократии был один - преодоление византийской односторонности православной церкви, признание авторитета римского папы. Высказывания о духовной несвободе русской церкви, о ее порабощении светской властью грозили философу серьезными неприятностями. За ним был учрежден полицейский надзор, ему передали мнение Победоносцева о том, что всякая его деятельность "вредна для России и для православия и, следовательно, не может быть допущена" (Письма, 2, 142). В одном из писем 1888 года звучит подлинная тревога: "Лишь бы только не в Соловки" (Письма, 1, 53).
Соловьев-публицист не ставил своей целью систематическое обличение правительственной политики, хотя бы только и в церковном вопросе, но "система нашего церберизма" (Письма, 2, 126) была столь противоположна его умонастроениям, его твердой вере в ценность духовной свободы и нравственного достоинства личности, что в 80-е годы он постоянно сталкивался с цензурными препятствиями, со скрытым и явным недоброжелательством правящих верхов. В иных случаях Соловьев не мог высказаться прямо и по нецерковным вопросам. В 1884 году он писал славянофильствующему публицисту А. А. Кирееву: "Вы мне советуете писать книгу об этике. Но ведь я этику не отделяю от религии, а религию не отделяю от
15
положительного откровения, а положительное откровение не отделяю от Церкви. Ото закавыка! И если мне нельзя свободно писать о церковной закавыке, то я не могу писать и об этике" (Письма, 2, 118).
Со второй половины 1880-х годов и до конца жизни Владимир Соловьев постоянно сотрудничал в либеральном "профессорском" журнале "Вестник Европы", где и были напечатаны его главные литературно-критические и публицистические работы. Философские основы воззрений Соловьева и редакции "Вестника Европы", где преобладали последователи позитивизма, были различны, но в критическом отношении к российской действительности они сходились. В 1888 году Соловьев писал Стасюлевичу: "В области вопросов русской политической и общественной жизни я чувствую себя (эти последние годы) наиболее солидарным с направлением "Вестника Европы" и не вижу, почему бы разница в идеях, принадлежащих к области сверхчеловеческой, должна была, при тождестве ближайших целей, мешать совместной работе" (Письма, 4, 34).
К середине 1880-х годов относится начало соловьевской полемики с деятелями "национального" направления - А. А. Киреевым, Д. Ф. Самариным, Н. Я. Данилевским, Н. Н. Страховым, К. Н. Леонтьевым. Публицист страстно призывает русское общество отрешиться от национального самодовольства и вступить в контакт с духовными силами Запада. Соло-вьевские статьи по национальному вопросу произвели впечатление "бомбы, разорвавшейся в совершенно мирной обстановке людей, убаюканных националистической политикой... Пробуждение было тяжелое" {1}. Публицист, казалось, нашел способ обойти цензуру, о чем сообщал Стасюлевичу: "За невозможностью писать прямо о грехах России, я мог бы написать у Вас о грехах Страхова, что в сущности все равно, так как в Страхове я вижу миниатюру современной России" (Письма, 4, 39).
Читать дальше