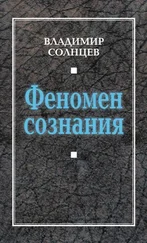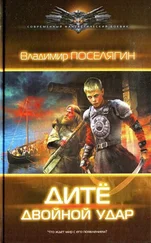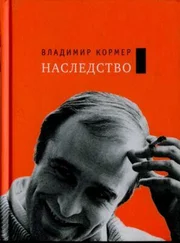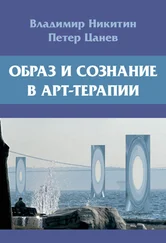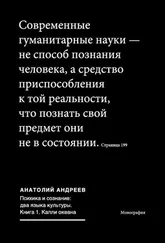Антиномизм чистого, атеистического разума является поэтому общечеловеческим в той мере, в какой человечество утрачивает религиозные истоки и переходит на позиции так называемого научного знания. Почему именно в России этот антиномизм дал такую неожиданную вспышку — это требует безусловно специального исследования. Но наличие связи с историей русского атеизма совершенно очевидно. Русские люди (и во главе их русская интеллигенция) зашли в своей атеизме дальше, чем любая другая, самая легкомысленная нация. Атеизм русской интеллигенции действительно был верой наизнанку. Уверовав в Канта, русский интеллигент решил, что легко обойдется теперь без Бога. Еели, однако, развить дальше намек о лакействе русской интеллигенции и о «достоевщинке», то можно достаточно хорошо понять и логику последующего разворота событий. Ударившись в атеизм, русская интеллигенция, и впрямь, точь-в-точь как Смердяков, решила, что «…коли Бога бесконечного нет, то и нет никакой добродетели, да и не надобно тогда ее вовсе!». Результат этой смердяковской интеллигентской дедукции слишком хорошо известен — это кровь миллионов, это террор, это гибель русской культуры!
Если сегодня интеллигенция не отвергает добродетель совершенно, то лишь потому, что на опыте знает, что добродетельный человек лучше разбойника, с ним безопаснее жить бок о бок, и что, следовательно, невыгодно призывать к анархии и произволу, хотя, конечно, в случае нужды можно и добродетелью поступиться. Произвол и так ненавидят не из-за его безнравственности, а из-за того, что слишком от него уже устали. На самом деле устойчивых моральных принципов нет. Нет различия добра и зла, все «относительно», по мнению русской интеллигенции. Хорошо зная себя, свои слабости, сегодняшний русский интеллигент готов «понять и извинить» что угодно. Он оправдывает предательство, доносы, пасквильные статьи в газетах, написанные его знакомыми, ложь в публичных выступлениях. Громя на собраниях отступников, интеллигент возвращается домой и компенсирует себя, издеваясь в своих четырех стенах над теми, с кем только что был заодно, но кто менее интеллигентен на его взгляд. Сам он вступил в партию потому, что «в партии необходимо увеличить процент порядочных людей». Но в глубине души он сомневается, не должна ли она быть судима, как судима была гитлеровская партия? Но, с другой стороны, как судить всех этих людей, с такими открытыми лицами, примерных мужей и гостеприимных хозяев? И кроме того, «ведь если не они, то на их место — какие-то другие, менее интеллигентные, менее порядочные»! Партийная книжка жжет интеллигенту грудь, но он не знает, как выбраться из этого порочного круга.
Проблема и в самом деле часто представляется как будто неразрешимой. Сама формулировка категорического императива — поступай так, как если б правило, по которому ты совершил свой поступок, посредством твоей воли могло стать всеобщим законом — позволяет дать в современных условиях любую многосмысленную трактовку любому действию. Психологизм нашего века снимает здесь возможные преграды тем, что каждый уверен, что уж его-то намеренья во всех случаях самые благие, и если б все были таковы, каков он, и руководствовались такими же намерениями, то и действительно общий результат был бы великолепен. Но это-то и порождает практику двойного сознания. Ввиду этой апории представляется, что и вообще проблема выбора меж добром и злом неразрешима, когда акту выбора уже предшествует какое-то прошлое, особенно внелично-историческое прошлое. Классический образец такого рода мнений дают слова Юрия Андреевича Живаго в романе Пастернака: «Я сказал А, но не скажу Б. Я признаю, что да, без вас Россия погибла бы, но вы пролили столько крови, что все ваши благие мечты…» и т. д. Он говорит это, но далее, по истиннейшей из логик, логике гениального художественного произведения выходит, что кто сказал «А», на самом деле все-таки должен сказать и «Б». А кто не хочет этого говорить, тот уходит из жизни. Даже если «А» за него сказали другие, а сказать «Б» предоставлено в некотором диапазоне. Иными словами, история, предшествующие акты выбора, как будто ограничивают следующий выбор, ставя индивида в такие рамки, где он вынужден выбирать лишь из некоторого набора, притом весьма относительные ценности. Вследствие чего, человек и не может определиться, не знает, что хорошо, а что плохо. «Да, большевики — это не хорошо, но, с другой стороны, без них Россия все равно бы погибла. Значит, в их явлении была какая-то закономерность, а раз так, то…»
Читать дальше