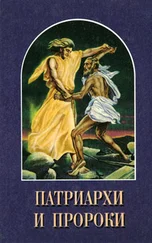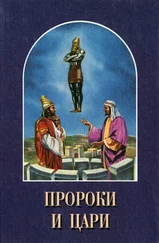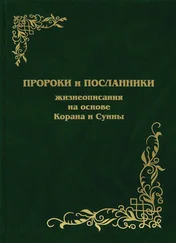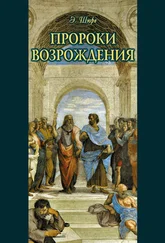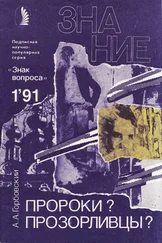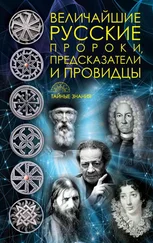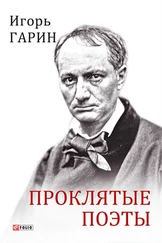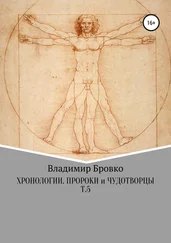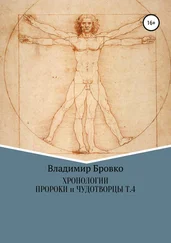Насколько Шекспир любил старый мир даже в его отрицательных
сторонах, настолько он ненавидел новый, даже в его положительных
проявлениях.
Герцог Просперо, подающий в отставку, прощающийся с искусством и
публикой, это весь старый аристократический мир с его блеском и его
поэзией, который был так дорог поэту и который на его глазах тускнел и
гас под напором серой и однообразной жизни демократии.
Если его ранние пьесы были праздником роскоши и наслаждения, то в поздние врываются зловещие нотки тоски и мрачных предчувствий - плачей по уходящему миру.
И это мрачное настроение все разрастается, становится грозным
кошмаром и поглощает, как черная туча, голубой, сиявший солнцем
небосвод. Там, где раньше виднелись светлые лица богов и богинь,
выступают в сгущающемся мраке мертвенно-бледные маски привидений и
дьявольские лики ведьм, освещенные отсветом адского огня.
Луначарский и Горький как в воду глядели, говоря о Шекспире, что он "не может устареть для нас" - все демонстрируемые им мерзости человека - наши. И еще, говорил Луначарский, "его время было такое, когда человек мог выявить особенно ярко всю многогранность своего существа". Наше время куда многогранней: что там шутовские и бутафорские страсти - мордасти Страстного Пилигрима по сравнению с почвой, унавоженной человечиной. Даже шекспировской фантазии вряд ли хватило бы, чтобы представить себе путь из трупов длиной в сто тысяч километров. А ведь именно столько уложили...
В. Шкловский сказал пророческие слова: трагедия Шекспира - это трагедия будущего. И хотя Шекспир не провидел масштабов трагедии, концентрированность трагического в Шекспире - это предвидение нас, ибо наша трагедия - трагедия нравственности, а это и есть главная тема Шекспира, заимствованная им у Данте и Средневековья.
Маркс обнаружил в творчестве Шекспира яростный бунт человека против бесчеловечности товара, и здесь сведя полноту жизни и широту искусства к товарноденежным отношениям. Наш демиург только то и разобрал в Шекспире, что он "превосходно изображает сущность денег". А вот мало кому в нашей стране известный р-р-р-реакционный поэт Колридж восторгался в Шекспире не силой вообще, а силой единения alter et idem, меня и ближнего моего. Такова разница между "великим вождем" и "реакционным поэтом".
Советское шекспироведение - во многом "пролетаризация" Шекспира, бесконечное "доказательство" того, что он наш, то есть борец за социальную справедливость, влюбленный в человека труда и красоту жизни. Другая сторона такого рода "доказательств" - "опровержение" символизма, модернизма и экзистенциализма Пророка бездн. Впрочем, первое и второе - одно: наша социальная справедливость и красота нашей жизни - достойны пера Шекспира. Рисуя Калибана, Шекспир упреждал Кафку и Беккета, рассказывая о том, каким может стать мир, когда Калибан расправится с Просперо.
Социальные причины трагизма Шекспира, пишут наши, - в несправедливой общественной формации, в реакционности правительства, бедствиях ремесленников и крестьян, в засилии торговых монополий. Основы трагического связаны не с сущностью человеческого, а с мистикой социального, существующего как бы вне людей. Так и говорится: магистральный сюжет шекспировских трагедий - судьба человека в бесчеловечном обществе. Человек прекрасен, общество бесчеловечно...
Даже Троил велик потому, что преодолел личный интерес. Даже у Кориолана - не презрение к плебсу, а "презрение к классовому миру":
Шекспир сделал борьбу двух классовых сил не просто фоном, на
котором действует главный герой, но основным содержанием [Кориолана].
Спасибо и за то, что "нельзя утверждать, что Шекспир выразил в "Кориолане" идею о неизбежности гибели феодального порядка". А почему, собственно, нельзя? Если ложь глобальна, утверждать можно все!.. И вот уже оказывается, что Шекспир демонстрировал не гнусности черни, он показывал "истину народа и его попранные права". И еще: "видимость народа не совпадает с его существом". Мол, видимость отвратительна, а сущность божественна... И вот уже народник Шекспир - предтеча революции и коммунизма...
Народность шекспировских героев питала буржуазно-демократическую
мысль нового времени. Ибо прогрессивно-освободительная борьба в новое
время была... борьбой за более органические и народные формы жизни, за
демократию на более широкой основе. Эта борьба решается, однако,
только в социалистическом обществе, как первой подлинной форме
Читать дальше