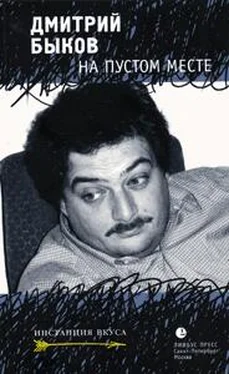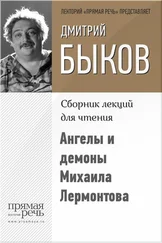Но настоящее раздражение вызвала у нее идея снять фильм. Писать о кино она любила, понимала в нем – и была уверена, что Голливуд опошлит книгу! Надо сказать, великое американское кино в самом деле началось именно с «Унесенных» – большинство картин первой половины тридцатых были откровенно слабы, конъюнктурны, гении вроде Казана и Уайлера не сняли еще ни кадра, Орсон Уэллс еще только готовился к дебюту,- фильм по роману Митчелл стал образцом, опорным столпом американского кино. Иногда можно встретить информацию: «фильм Дэвида Селзника». Неправда. Это фильм Виктора Флеминга от первого и до последнего кадра, Селзник – не более чем продюсер, но продюсер этот исхитрялся на сравнительно скромный бюджет снять действительно грандиозные сцены. Для пожара Атланты он использовал декорации «Кинг Конга», которые в этой сцене и сжег.
Когда Митчелл посмотрела картину, ее единственная реакция, говорят, была такой: «Если б у нас под Атлантой было столько народу, сколько тут массовки… мы бы не проиграли войну!» Впрочем, скорее всего, и это апокриф – эту фразу приписывали многим, в том числе и самому Селзнику. Как бы то ни было, узнав, что в момент убийства солдата-янки, которому Скарлетт вышибает мозги, зал взрывается аплодисментами, Митчелл всерьез испугалась. Она никак не считала поведение своей героини образцом для подражания, но ее никто уже не слушал. Люди действия были востребованы эпохой, и миллионы американцев после начала Второй мировой войны считали, что именно в сценах героического сопротивления южан будут они теперь черпать мужество.
…Митчелл ничего больше не написала. Есть свидетельства, что в конце жизни она стала относиться к своей героине теплее,- хотя в письмах настаивала, что ей куда ближе Мелли. Она даже утверждала, что именно Мелли задумана главной героиней романа, но эта зеленоглазая чертовка Скарлетт – иначе Митчелл ее не называла – перетянула одеяло на себя. Собственно, ведь и «Двенадцать стульев» предполагалось писать о предводителе дворянства, но тут влез Бендер и поломал все планы. Иногда кажется, что Скарлетт очень хотела появиться на свет – бывают в мире идей и образов такие демоны, которые пробиваются в текст почти помимо авторской воли и оказываются живее всех живых. Противоборством с этим демоном и была вся работа над романом – и победила, конечно, Митчелл… хотя не убежден. Во всяком случае, Скарлетт О'Хара свою создательницу пережила, и даже стала героем достаточно слабого сиквела «Скарлетт» (его сочинила Александра Рипли, выдав поначалу за черновик продолжения, найденный будто бы в бумагах Митчелл).
Маргарет Митчелл попала под автомобиль 11 августа 1949 года на той самой Персиковой улице, по которой так часто ходила ее героиня. Ее сбил таксист, успевший затормозить – но поздно: удар оказался смертелен. Митчелл с мужем направлялись в кинотеатр. Как в жизни и смерти всякого большого художника сходятся все силовые линии его судьбы – так и тут все сошлось: Персиковая улица, автокатастрофа, кино. Митчелл прожила в больнице еще пять дней и умерла 16 августа 1949 года, завещав уничтожить все ее рукописи, в особенности черновики и подготовительные материалы. Ее муж оказался дальновиден: он собрал в конверт несколько страниц черновиков, машинопись с авторской правкой, хронологические таблицы – и сохранил все это в одной из ячеек атлантского банка, на случай обвинений в плагиате. Сам он умер в 1950 году, ненадолго пережив жену. Обвинения в плагиате не замедлили последовать – говорили, что роман за Митчелл написал муж, была даже экзотическая версия, что она заказала роман Синклеру Льюису… но, как справедливо замечает Палиевский, Льюис хоть и был нобелевским лауреатом, а писал значительно хуже.
Маргарет Митчелл погибла не только потому, что по Персиковой улице ехал таксист, не заметивший ее; она погибла потому, что все силы своей души отдала единственному своему свершению. Жизнь ее после романа была доживанием, и сама она была лишь тенью той страстной и умной, отчаянной и смелой женщины, которая писала ее роман. Эта женщина бесконечно мудрее, добрее и талантливее, чем Скарлетт О'Хара. Она принадлежала к тому высшему человеческому типу, о котором сама сказала лучше всех:
«Они оставались леди и джентльменами, коронованными особами в изгнании,- исполненные горечи, холодно безучастные, нелюбопытные, добрые друг к другу, твердые, как алмаз, и такие же блестящие и хрупкие, как хрустальные подвески разбитой люстры у них над головой. Былые времена безвозвратно ушли, а эти люди будут по-прежнему жить согласно своим обычаям – очаровательно медлительные, твердо уверенные, что не надо спешить и, подобно янки, устраивать свалку из-за лишнего гроша, твердо решившие не расставаться со старыми привычками».
Читать дальше