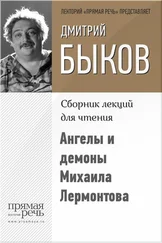Потом француз стал бы экзистенциалистом, американец получил бы Нобелевскую, а голландская журналистка, остепенившись, стала бы женой магната. Но узнав о том, что ее советского возлюбленного по невнятному обвинению расстреляли в Москве, она все равно упала бы в обморок. А всех очкастых радиолюбителей убили бы под Москвой. Так закончился русский, да и мировой конструктивизм. Хотя кожаные куртки тех времен, летчицкие шлемофоны и планшеты, и даже добротные эбонитовые черные телефоны – все это для меня и поныне неотразимо обаятельно. Это был деловитый стиль надежных людей, нужных своей стране. Поэтому я зимой ношу шлемофон, который подарил мне Веллер и который вызывает у половины пассажиров метро дружелюбную усмешку, а у другой половины – нешуточную зависть.
Второй советский стиль и соответствующий ему массовый вкус – это уже начало упадка, римская роскошь кремовых тортов и рыбных отделов московских продмагов. В провинции, понятное дело, этой роскошью и не пахло, хотя в любом крупном промышленном городе найдется улица, целиком застроенная в стиле позднего Сталина. И в Новосибирске, и в Магнитогорске, и в Ялте, даром что она не промышленная, а курортная. Роскошь подчеркивалась окружающей нищетой и работала только в этом контрасте. Она была по-своему ослепительна и нашла самое яркое свое воплощение в кино советского послевоенного большого стиля – прежде всего, конечно, в Пырьеве. На смену просчитанному, сконструированному кино ФЭКСов, молодых Козинцева и Трауберга, ранних Барнета и Рома – пришла развесистая стилистика государственных эпосов Чиуарели, «Кубанских казаков» Пырьева, который и в своих экранизациях классики (не случайно его любимым писателем был Достоевский) с особенным смаком демонстрировал роскошь и красивые жесты.
Расцвет ампира совпал с четвертой волной репрессий (первая – после убийства Кирова, вторая – ежовская, третья – бериевская); после войны считалось естественным восхвалять собой, любоваться собой, и лучший символ конца сороковых – сочинский санаторий с пышной мраморной лестницей и гипсовым рогом изобилия. На всем этом, конечно, лежала печать скуки и искусственности – люди со вкусом были уже повыбиты, да и настоящий страх выветрился, уступив место привычной тоске. Расцвет советской пышности был одновременно триумфом советской серости. Однако роковые ночные женщины, богемные спутницы молодых генералов от инфантерии, артиллерии и литературы, были все же очень хороши; и крабов было еще сколько хочешь, и микояновская «Книга о вкусной и здоровой пище» венчает эту пирамиду. Во многих семьях среднего класса она сделалась любимым чтением, а позднее – символом ностальгии.
Поколение детей XX съезда одержимо было идеей возвращения к истокам, к опороченным и опоганенным идеям расстрелянных отцов. Потому что не детьми XX съезда были они в первую очередь, а детьми героев гражданской, тех самых молодых конструктивистов, которые уже видели себя хозяевами мира. Отсюда порывы этих мальчиков рубить помпезную мебель и разговаривать в трудные моменты с военными или революционными отцовскими фотографиями. Тоска по аскезе и демократизму среди дряхлеющей империи была велика; пошлость вновь стала отождествляться с достатком, а романтизм – с нищетой и скитальчеством, с поездками на целину, заменившими «окультуривание Средней Азии». Это был гуманизированный, чуть более сытенький и розовый, но все-таки большевизм – только вместо военного коммунизма был шестидесятнический демократический стиль, ковбойки, неформальные выступления на совещаниях, культ молодых гениев – физиков, любящих лирику… Это, конечно, была культура даже не второсортная, а третьесортная, и стиль пошлейший, но в нем, в отличие от закосневшего и оцепеневшего русского ампира, было предчувствие будущего. Было неотразимое обаяние новосибирского Академгородка и московского района ВДНХ – где рядом с самой выставкой гигантским сталинским монстром вознеслась в небо легкая ракета, а рядом с ней столь же легкая башня. Вернулась строгость форм. Просторные улицы новых городов, окруженных тайгой. Ветер странствий. Песня про пингвинов, впервые услышавших радио. Высокие прически, телевизионные посиделки, студенческие попевки, обои в ярких квадратиках, кружках и треугольниках; немудрено, что это время вернулось к идеям конструктивиста Родченко, любимый ученик которого – Владимир Ворошилов – стал главным телевизионщиком эпохи, генератором всех ее лучших идей от телеаукциона до телевикторины.
Читать дальше